
Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Метафорическое сравнение 14 страница
|
|
И, наконец, в одной из тех ошибочных работ, чьи несообразности более поучительны, чем истины в других работах, — работе Т. Дрейнджа [8]2 — автор ставит задачу исследования «бессмысленных предложений», однако в конечном счете к собственному удивлению обнаруживает, что в большинстве случаев он имел дело с метафорой. «В действительности метафорическое предложение, рассматриваемое буквально, обязательно содержит пересечение типов (type-crossing). Следовательно, согласно моей теории буквальная интерпретация такого предложения совершенно немыслима. Возможно, именно этим метафора и привлекательна. Поскольку она не может быть понята буквально, читатель или слушающий оказывается вынужденным переосмысливать то, что ему сообщается» [8, р. 215]. При этом автор ранее признал, что «во многих случаях то, что некогда было метафорическим использованием слова, впоследствии становится использованием почти буквальным (например, she planted an idea in his mind букв, 'она взрастила мысль в его голове')» [8, р. 174]. Это замечание в совокупности с тем, что приводимое автором определение «немыслимого суждений» совершенно немыслимо3, разрушает всю его аргументацию, поскольку, если одна метафора может стать «буквальной» и на такое превращение не накладывается никаких ограничений, то это может случиться и со всеми остальными, а если метафора — это не только особый случай немыслимого суждения, то тогда большая часть немыслимого должна быть потенциально мыслимой, то есть, в терминологии автора, полностью приемлемой.
III
Из сказанного следует, что нелингвистические подходы скорее затемняют, чем проясняют суть вопроса, и можно утверждать, что их неудачи объясняются именно их нелингвистичностыо. Более того, почти все работы, посвященные метафоре, опираются на три не выраженные явно предположения о языке, каждое из которых, по всей вероятности, ложно. Перечислим эти предположения.
(1) Слова имеют фиксированное и определенное значение. Дрейндж, трактуя предложение Smells are loud 'Запахи громки,
кричащи' как бессмысленное, в то же время считает приемлемым словосочетание a loud colour 'кричащий цвет', руководствуясь странным соображением о том, что «в " American College Dictionary" в качестве седьмого значения слова loud выделено значение 'режущий глаза', или 'вырывающе кричащий', о цветах, одежде или о том, кто носит такую одежду и т. п.».
Тем самым, считая во всех прочих случаях «немыслимость» (которая приравнена к «бессмысленности») параметром, не зависящим от времени, он в данном случае оказывается не в состоянии понять, что словосочетание a loud colour 'кричащий цвет', вероятно, некогда казалось столь же «бессмысленным», что и a loud smell 'кричащий запах', и не исключено, что в будущем словосочетание a loud smell окажется — в результате аналогичного процесса — столь же «осмысленным», что и a loud colour. Остается только согласиться с комментариями мисс Хессе по поводу работы Тербейна: «Мы должны отказаться от поисков среди всех значений слова «буквальных», или «канонических» значений. Подобный взгляд на язык в настоящее время чужд большинству специалистов по структурной лингвистике и философии языка, однако только такой взгляд был бы адекватным для рассмотрения... семантических проблем в общем виде» [10, р. 284]. Тем самым, очевидным образом оказывается возможным признать l'arbitraire du signe (произвольность знака) и отвергнуть то, что Фёрс обычно называл the cowness of cow 'коровость коровы', то есть точку зрения, согласно которой, поскольку cow устойчиво связано с понятием коровы, то оно неуместно для обозначения чего-либо отлечного от этого понятия.
(2) Значение предложения — это сумма значений составляющих его слов. Примечательно, что, когда Ричардс хотел продемонстрировать взаимодействие различных уровней понимания при интерпретации поэзии, ему пришлось избрать в качестве примера строку Arcadia, Night, a Cloud, Pan, and the Moon 'Аркадия, Ночь, Туча, Пан и Луна' — пять именных групп, связанных сочинением, то есть столь же свободных от подчинительных грамматических отношений (и вследствие этого от ограничений на семантическую сочетаемость), сколь свободно от них более развернутое высказывание; он затем обращается к рассмотрению той роли, которую играют «визуальные ощущения, вызываемые напечатанными словами», «связанные образы», «свободные образы», «референции», «эмоции», «отношения» — то есть все, что угодно, кроме синтаксиса [21, р. 116—133]. На самом деле синтаксические структуры существенно влияют на нашу интерпретацию текста — не только поэтического (что показано в [15] и [2]), но любого текста вообще. Более того, синтаксические связи лексических единиц могут повлиять и на то, какие именно семантические категории следует сопоставлять при интерпретации.
Так, предложение Eternity is visible 'Вечность видима' может показаться не менее невразумительным, чем пример Дрейнджа The theory of relativity is blue 'Теория относительности голубая' в отличие от поэтического выражения I saw eternity 'Я видел вечность' в произведении Вогана «Мир» (Vaughan, " The World"). (Можно, конечно, сказать, что до некоторой степени смысл этого выражения поясняется контекстом поэтического произведения в целом или что «в поэзии мы ожидаем выражений такого рода», однако это объясняет суть дела лишь отчасти.) Таким образом, семемы в синтаксической конструкции «имя + глагол-связка + существительное или прилагательное» (а большинство примеров Дрейнджа имеют именно такой вид) обладают более низкой степенью интерпретируемости, чем те же семемы в других синтаксических конструкциях.
(3) Интерпретируемость текста не зависит от типа текста. Все согласны, что контекст может влиять на интерпретацию. Немногие осознают, что для объяснения этого нам не требуется выходить за пределы языка. Если признать, что каждый ситуационный контекст (или, более точно, ситуация плюс роль плюс тема) порождает собственный тип текста и что эти типы формально различимы хотя бы на одном языковом уровне, то ничто не мешает нам соотнести интерпретацию непосредственно с типом текста, не принимая во внимание внеязыковой контекст. Если мы согласимся, что язык, или, точнее, подъязык4, научного журнала отличается — и отличается формально, так, что это можно зафиксировать при помощи предсказывающих правил, — от языка, например, хиппи, то мы можем сказать, что выражение The theory of relativity is blue неприемлемо для первого подъязыка, но вполне уместно (и даже, учитывая воздействие наркотика, предсказуемо) для второго. Это означает только, что наши языковые ожидания приспосабливаются к тому типу текста, который мы в данный момент воспринимаем. Если в стихах мы встречаем такие слова, как moon 'луна', rose 'роза' и autumn 'осень', то мы склонны (причем, если нет эксплицитных указаний на противоположное, склонны в высшей степени) связать их скорее с понятиями 'недосягаемая красота', 'совершенная красота' и 'зрелость и/или увядание', чем со значениями 'спутник Земли', 'разновидность цветка', 'третье время года'. Однако подобные связи ни в коем случае не будут установлены, если мы читаем календарь или садоводческий каталог.
Эти три предположения можно рассматривать просто как различные аспекты более фундаментального, хотя столь же ошибочного предположения, что значение существует в языке, подобно воде в колодце, причем иногда его можно оттуда извлечь, а иногда по каким-то мистическим причинам — нельзя. Однако что же на самом деле мы имеем в виду, когда говорим, что «поняли значение высказывания»? Мы имеем в виду, что на основе нашей
языковой компетенции, непосредственного контекста высказываний и более широкого контекста мы проинтерпретировали это высказывание. Во многих случаях наша интерпретация совсем незначительно отличается от интерпретации других людей или даже совсем не отличается от нее, что поддерживает иллюзию существования «значения», однако в некоторых случаях это вовсе не так. Тогда мы можем призвать на помощь только своего рода консенсус (согласие) между людьми; грамматики и словари — это тот же консенсус, но на более общем, обезличенном уровне. Более того, при изменении типа согласия правильное становится ошибочным и наоборот. Для колумбийца le provoca un tin to? означает quiere Vd un café? 'не хотите ли чашку кофе? ', а для испанца — le hace pelear una copita? 'бодрит ли вас стакан вина? ', которое из значений правильно? Вопрос смешон. Однако если значение не существует в языке самом по себе, то в то же время оно не может существовать и просто в сознании говорящего и слушающего, поскольку в этом случае мы имели бы право комбинировать звуки произвольным образом или интерпретировать высказывания так, как нам заблагорассудится. Если значение где-то и содержится, то только в отношении «говорящий — язык — слушающий», а не в одном каком-то компоненте этого отношения и уж, конечно, не в какой бы то ни было связи между языком и внеязыковым универсумом.
IV
Эта связь столь неуловима, что ввела в заблуждение некоторых весьма проницательных лингвистов. Так, Ч. Базелл отмечает: «Выражения green wine 'зеленое вино' и yellow wine 'желтое вино' — это комбинации слов, которые встречаются крайне редко или же вообще не встречаются, однако по различным причинам: в первом случае отсутствует материальная мотивировка, а во втором — нарушается синтаксическое соглашение» [1, р. 83]. Под отсутствием материальной мотивировки Базелл, по-видимому, подразумевает то, что зеленого вина не существует в природе, а под синтаксическим соглашением — тот факт, что то вино, которое реально имеет желтый цвет (по крайней мере, для говорящих, относимых Уорфом к «стандартным средним европейцам»), в целом ряде языков принято называть белым (white). Даже если оставить в стороне, что интерпретация в спектре в различных языках неодинакова, то это не так. Как быть с португальским vinho verde 'крепкое (букв, зеленое) вино' или, если брать более близкие примеры, как быть с такими словосочетаниями, как yellow rat 'трус, предатель, штрейкбрехер (букв, желтая крыса)' (где rat вовсе не крыса) или green fingers (букв, 'зеленые пальцы', о человеке, удачно выращивающем растения)?
Или рассмотрим следующую таблицу:
| iron mine iron ore iron works iron magnate iron production iron girder iron delermination iron will iron discipline | 'железный рудник' 'железная руда' 'чугуноплавильный завод' 'железный магнат' 'производство чугуна' 'железная балка' 'железная решимость' 'железная воля' 'железная дисциплина' | *steel mine *steel ore steelworks steel magnate steel production steel girder *steel determination *steel will *steel discipline | 'стальной рудник' 'стальная руда' 'сталеплавильный завод' 'стальной магнат' 'производство стали' 'стальная балка' 'стальная решимость' 'стальная воля' 'стальная дисциплина' |
По всей вероятности, Базелл объяснил бы недопустимость двух первых словосочетаний в правом столбце и допустимость четырех следующих за ними тем, что стальные рудники и стальная руда в природе не существуют, тогда как сталеплавильные заводы, стальные магнаты и т. д. — существуют. Однако если бы он попытался сходным образом объяснить недопустимость трех последних словосочетаний в правом столбце, то он никак не смог бы объяснить допустимость парных им словосочетаний в левом столбце. Он был бы вынужден трактовать эти последние как метафоры, хотя и несколько стертые. Но в этом случае ему пришлось бы объяснять, почему три последних словосочетания правого столбца сходным образом трактовать нельзя.
На самом деле лучше вовсе отказаться от вопросов, касающихся «природы» или «материальной мотивировки». Отсутствие в английском языке словосочетания steel mine лишь случайным образом связано с отсутствием в природе стальных рудников, ведь существует же словосочетание yellow rat при отсутствии в природе желтых крыс. Если бы нашлось нечто, что можно было бы описать как steel mine, подобно тому, как некоторые люди могут быть описаны как yellow rats, то такое словосочетание стало бы допустимым, несмотря на отсутствие в природе стальных рудников. Причина, по которой этого не произошло, состоит только в том, что, по крайней мере, в английском языке со словом steel не связаны специфические атрибуты.
Под «специфическим атрибутом» имеется в виду определенное качество, обычно соотносимое с денотатом знака. Так, с английским словом iron связан атрибут 'твердость'. Хотя такая связь и кажется естественной, на самом деле она довольно-таки произвольна: твердость — это только один из атрибутов, которые, вообще говоря, можно соотнести с железом (например, 'прочность', 'тяжесть', 'темный цвет' и т. д.); кроме того, железо обладает этим свойством в меньшей степени, чем многие другие материалы, например алмаз или та же сталь. Однако со словом diamond 'алмаз' связаны атрибуты 'ценность', а также, быть может, 'яркость'. Доводом в пользу произвольности подобных связей может также служить то обстоятельство, что они не явля-
ются универсальными; так, в испанском языке слово hierro 'железо' не имеет метафорического значения, а acero 'сталь' — имеет: даже при переводе заимствованных словосочетаний в испанском производятся соответствующие замены — iron curtain 'железный занавес' переводится как telon de acero 'стальной занавес', iron lung 'железные легкие' как pulmó n de acero 'стальные легкие'. Тем самым в испанском, в отличие от английского, атрибут 'твердость' связан не с железом, а со сталью.
В дальнейшем изложении лексемы, имеющие подобные атрибуты, будут называться «маркированными знаками», а лексемы, их не имеющие, — «немаркированными знаками». Сразу оговоримся, что ничто не препятствует использованию маркированных знаков в немаркированных, равно как и в маркированных значениях. В последнем случае, однако, знак способен комбинироваться с другими знаками или замещать их, тогда как немаркированный знак такой способностью не обладает.
В полном объеме важность связи знака с атрибутом станет очевидной из дальнейшего изложения. Однако прежде, чем двигаться дальше, уместно, быть может, вернуться ко второму из тех двух вопросов, которые были поставлены в начале статьи, поскольку, приводя соображения относительно неудовлетворительности нелингвистического подхода к метафоре, мы пока еще не доказали, почему лингвистический подход может оказаться более приемлемым.
V
До последнего времени особого лингвистического подхода к метафоре не существовало, поскольку, несмотря на признание важности роли метафоры при изменении значений (см., например, [23]), она все же рассматривалась при синхронном описании языка как нечто второстепенное. Однако, как представляется, работы специалистов по порождающим грамматикам содержат материал для разработки такого подхода. С этой точки зрения кажутся релевантными семантические категориальные маркеры, предложенные Н. Хомским для описания лексических единиц [6], и теория структурной семантики Дж. Катца, Дж. Фодора и П. Постала [11], [12].
Современное состояние порождающей грамматики Дж. Лакофф [13 ] охарактеризовал следующим образом: все неядерные предложения могут быть выведены из ядерных; все сочетаемостные правила и ограничения (включая и семантические) применяются на последнем уровне; все такие правила и ограничения остаются постоянными при последующих трансформациях (в результате чего, как показано в [3], из неприемлемых ядерных предложений будут получаться неприемлемые трансформы). Тем самым оказывается возможным разбить часто встречающиеся в поэзии (и в некоторых других видах текстов) запутанные цепи
метафор, выделить соответствующие ядерные предложения и исследовать каждое нарушение семантических норм изолированно. Тогда — если мы на некоторое время предположим, что метафору правомерно рассматривать как нарушение нормы, — мы можем выделить классы метафор, например, метафоры, нарушающие главные категориальные правила (hearts that SPANIEL'D me at heels 'сердца, которые СПАНИЭЛИЛИ вслед за мной'), метафоры, нарушающие субкатегориальные правила (MISERY LOVES company 'НЕСЧАСТЬЕ ЛЮБИТ компанию') или семантические проекционные правила Катца — Фодора — Постала (the flinty and STEEL COUCH of war 'кремнистое и СТАЛЬНОЕ ЛОЖЕ войны'). Такое подразделение, как представляется, позволит стилистам испытать на деле готовую иерархию метафор, каждый уровень которой можно соотнести с определенным стилистическим приемом.
К сожалению, хотя все метафоры можно рассматривать как нарушения некоторых правил, не все нарушения правил можно рассматривать как метафоры. Пример Катца *scientists truth the universe букв, 'ученые истинят вселенную' — это случай нарушения главных категориальных правил, но отнюдь не метафора. То же самое можно сказать и о нарушениях субкатегориальных правил; рассмотрим следующие два предложения: poverty gripped the town 'бедность охватила город' и *ability gripped the town букв, 'способность охватила город'. Теоретически к обоим предложениям должны применяться одни и те же субкатегориальные ограничения: poverty и ability — это два абстрактных существительных, производные от прилагательных, которые обычно модифицируют существительные — названия людей; grip — это глагол, который обычно требует в качестве подлежащего имя, обозначающее либо живое существо (man 'человек', monkey 'обезьяна'), либо атрибут живого существа (paws 'лапы', fingers 'пальцы'), либо артефакт (wrench 'гаечный ключ', pliers 'плоскогубцы'). Однако если первое предложение можно отнести к метафоре, то второе можно почти без сомнений считать «бессмысленным». В результате нарушений проекционных правил возникают как бессмыслицы (*short hats 'короткие шапки', *green elbows 'зеленые локти'), так и выражения, осмысляемые метафорически. Таким образом, не существует такого уровня, на котором при нарушении правил не могли бы сосуществовать метафора и неметафора, и нет таких средств, которые в рамках порождающей грамматики позволили бы проводить между ними различие на любом из уровней.
Более того, теория Катца — Фодора — Постала имеет по меньшей мере два существенных изъяна. Во-первых, она не отвечает «скромному требованию» к семантической теории, сформулированному Болинджером, согласно которому семантическая теория должна «описывать разные значения слова таким образом, чтобы отражать возможное развитие одних значений из других»
[5, p. 566]. Эта теория никак не объясняет того факта, что, например, для слова bachelor три следующих значения имеют пересекающуюся семантическую часть со значением '(СУЩЕСТВО МУЖСКОГО ПОЛА), не вступавшее в брак': '(СУЩЕСТВО МУЖСКОГО ПОЛА) (МОЛОДОЙ) котик, оставшийся без пары в брачный период', '(СУЩЕСТВО МУЖСКОГО ПОЛА) (МОЛОДОЙ) рыцарь, служащий под началом другого рыцаря', '(ЧЕЛОВЕК), имеющий первую, и низшую, академическую степень'; не объясняет она и того, почему в подавляющем большинстве случаев это слово употребляется в значении 'холостяк'. Если последний вопрос может быть объяснен только в рамках теории подъязыков, то вопрос о причинах выбора слова bachelor для передачи трех остальных значений связан со вторым изъяном теории Катца — Фодора — Постала.
Возьмем два словосочетания — bachelor flat 'холостяцкая квартира' и bachelor girl 'одинокая девушка (букв, девушка-холостяк)'. Рассматриваемая теория объясняет различия между двумя этими словосочетаниями, сопоставляя их с двумя разными глубинными структурами и показывая, что в первой структуре (the flat is for the bachelor 'квартира подходит для холостяка'), в отличие от второй, не содержится семантически несовместимых единиц. В то же время глубинная структура второго словосочетания (the girl is a bachelor букв, 'девушка является холостяком') содержит несовместимые единицы (N человек-женщина + быть + N человек-мужчина), а такая структура, по-видимому, может считаться столь же маловероятной, как и пример Катца — Фодора *spinster insecticide 'средство от насекомых для девиц'. Может показаться, что использование слова bachelor применительно к женщинам, равно как и случай, когда это слово обозначает котика, связано с некоторой доселе не объясненной способностью «различителен» низшего уровня (в наших примерах это 'одинокий', 'не имеющий партнера') получать преимущество перед «семантическими маркерами» более высокого уровня, такими, как 'существо мужского пола' или 'человек'. Однако значительная часть языковых знаков обладает способностью преодолевать категориальные границы, и, каким бы произвольным ни казался этот процесс, говорящие на определенном языке всегда могут сказать, в каких случаях продукты этого процесса находятся «в пределах» языка, а в каких — «за пределами» языка. Поскольку этот процесс составляет часть их языковой компетенции, адекватная грамматика должна отражать его.
Так, встретившись с такими высказываниями, как *she has stabbed my self-respect букв, 'она ранила мое самоуважение' или *quiet donkeying with my car 'осторожнее (букв, хватит обезьянничать) с моей машиной', с одной стороны, и hearts that spaniel'd me at heels или с его менее вычурным вариантом to dog someone's footsteps 'по-собачьи идти по пятам за кем-либо (букв. собачить чьи-то следы)', с другой стороны, любой носитель анг-
лийского языка окажется способным не только провести между ними различие, но и определить, что два первых высказывания, возможно, принадлежат человеку, для которого английский язык не родной, тогда как два вторых демонстрируют владение языком, превосходящее средний уровень. Уравнивание соответствующих пар высказываний означает, по моему мнению, отрицание того, что составляет самую суть языка. В связи с этим возникает вопрос о том, является ли неспособность порождающей грамматики отличать метафору от не-метафоры необходимой или случайной чертой этой теории.
VI
Как представляется, некоторые ведущие теоретики порождающей грамматики, руководствуясь своими собственными научными интересами и/или общими современными тенденциями, ориентируются скорее на логику, чем на практическую лингвистику. Этим можно объяснить использование ими принципа «р или не р» при решении семантических проблем, а также проведение ими жестких границ между семантическими категориями; при этом их не останавливает даже признание возможности существования единиц, принадлежащих более чем одной категории (поскольку, несмотря на признание этого факта, свободный переход знака из одной категории в другую в рамках трансформационной грамматики запрещен). В связи с этим они не рассматривают тот единственный вопрос, который в этой связи заслуживает размышлений: какие привилегии и ограничения управляют переходом знака из одной категории в другую?
Ограничения такого рода непременно должны существовать, поскольку в противном случае свободная комбинация знаков была бы теоретически неограниченной, а знак с неограниченными привилегиями употребления, как заметил МакИнтош [18, р. 189, сн. 11], может обладать только грамматическим значением. Подобные привилегии должны существовать; без них язык бы окостенел, в нем не использовались бы неологизмы, заимствованиями выражения типа bachelor girl, loud colour, iron discipline и т. п. (которые являются не вычурными поэтическими метафорами, а всего лишь незначительными изменениями повседневно используемого языка). Чего нам недостает, так это всего лишь ключа к механизму создания метафоры.
VII
Как было показано в разделе IV, определенные атрибуты связаны с определенными знаками, в результате чего эти знаки могут комбинироваться с другими знаками, связанными с тем же атрибутом, или замещать последние. Так, слову soup 'суп' можно приписать атрибут 'густота', что объясняет такие выражения,
как soup 'плотная облачность' у пилотов, pea-soup 'густой туман' в жаргоне лондонцев или словосочетание to be in the soup, эквивалентное to be in the trouble 'быть в беде' (поскольку trouble-'беда' ассоциируется скорее с dense 'густой', нежели с diffuse 'текучий', ср. такие выражения, как forest of difficulties 'лес трудностей', slough of despond 'трясина уныния') и т. д.
Может появиться желание дойти при исследовании происхождения этого процесса до истоков языка, когда, как считают многие авторы, писавшие о метафоре, у человека был только ограниченный набор знаков, состоящий из «имен предметов, воспринимаемых органами чувств», и значения этих имен должны были претерпеть метафорическое изменение для того, чтобы оказаться способными обозначать «те ментальные объекты, о которых люди имели более смутное представление и назвать которые оказалось сложнее» [4, р. 280]. К сожалению, хотя о предполагаемом происхождении языка писали много (полезный обзор различных теорий такого рода содержится в работе [20]), почти все рассуждения на эту тему приходится признать спекулятивными; несомненно, что теория, согласно которой «конкретные» знаки предшествуют «абстрактным», вполне разумна, однако у нас нет ровным счетом никаких свидетельств, ее подкрепляющих. В то же время мы можем утверждать, что именно должно было бы произойти в таком языке (или языках), поскольку сходные процессы при гораздо более сложных обстоятельствах происходят и сейчас.
По мнению известного антрополога, вероятно, «становление человека сопровождалось решением исключительно сложной задачи — систематизации того, что непосредственно представлено в чувствах...» [14, р. 11 ] и что тотемизм и другие верования и практические привычки примитивного человека были «непосредственно или опосредованно связаны с классификационными схемами, которые позволяли рассматривать естественный и социальный универсум как упорядоченное целое» [14, р. 135]. Заметим, что простейшая форма классификации — бинарная; тогда мы можем предположить, что на сравнительно ранней стадии человеческого развития возникла концептуальная сеть бинарных оппозиций: Конкретное / Абстрактное, Одушевленное / Неодушевленное, Статика / Динамика, Целое / Часть, Плотное / Рассеянное и т. д.
Для некоторых из этих оппозиций характерно то, что они построены посредством последовательного подразделения, и потому могут быть представлены в виде бинарного дерева, как показано на рис. 1.
Бросается в глаза сходство этого дерева со структурами деревьев в порождающей грамматике. Столь же очевидно, что ряд дальнейших оппозиций может быть включен в структуру подобного рода за счет некоторого ее расширения, как, например, в случае оппозиции Мужское / Женское, так как и Естественное, и Арте-
Все явления
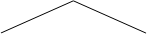 |
Абстрактное Конкретное
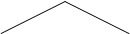
Одушевленное Неодушевленное
 | 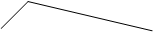 | ||
Человек Животное Естественное Искусственное
 |  |
Мужское Женское Мужское Женское
Рис. 1
факт могут быть подразделены далее на Жидкое/Твердое, а все категории вообще — на Оцениваемые положительно и Оцениваемые отрицательно (хотя в этом случае картина будет усложнена введением третьего узла — Морально нейтрального). Но если мы введем новые оппозиции, часть которых подразделяет не одну, а большинство, а иногда и все ранее выделенные категории, наша картина существенно усложнится. И дело не только в том, что многократно возрастет необходимость введения постоянных бинарных подразделений, но и в том (и это более важно), что произвольный характер упорядочения категорий станет еще очевиднее. Например, если мы хотим охарактеризовать с точки зрения категорий такого дерева soup, то должны будем расширить нашу исходную модель так, как это показано на рис. 2.
Недостатком этого рисунка является не только то, что он не отображает все допустимые подразделения (следует помнить, что на нем представлено дерево, продолжающее только один узел исходного дерева), но и то, что в отличие от исходного дерева, где последовательность подразделений вполне обоснованна, данная последовательность подразделений ничуть не лучше, чем любая другая. Так, наряду с другими возможна последовательность Жидкое — Густое — Горячее — Целое — Съедобное — Оценка. И все же подчеркнем, что предложенные оппозиции (равно как и многие другие) играют столь же существенную роль в семантическом описании, что и те, которые рассматриваются Катцем — Фодором — Посталом; это легко показать, приведя примеры неприемлемых выражений (общее число которых практически неограниченно), получающихся при нарушении соответствующих сочетаемостных ограничений, ср. *scalding beer букв, 'обжигающее пиво', *the beer on the froth букв, 'пиво на пене', " " refreshing poison букв, 'освежающий яд', *drink that cardboard букв, 'выпейте этот картон' и т. п.