
Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Глава VII. Особенности современного этапа развития науки. Пафос предостережений против наук, как это ни парадоксально, был сильным именно в эпоху Просвещения
|
|

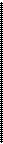 Пафос предостережений против наук, как это ни парадоксально, был сильным именно в эпоху Просвещения. Жан Жаку Руссо принадлежат слова: «Сколько опасностей, сколько ложных путей угрожают нам в научных исследованиях!.. Через сколько ошибок, в тысячу раз более опасных, чем польза, приносимая истиною, нужно пройти, чтобы этой истины достигнуть?.. Если наши науки бессильны решить те задачи, которые они перед собой ставят, то они еще более опасны по тем результатам, к которым они приводят. Рожденные в праздности, они, в свою очередь, питают праздность, и невозместимая потеря времени — вот в чем раньше всего выражается вред, который они неизбежно приносят обществу»1. А следовательно, заниматься науками — пустая трата времени.
Пафос предостережений против наук, как это ни парадоксально, был сильным именно в эпоху Просвещения. Жан Жаку Руссо принадлежат слова: «Сколько опасностей, сколько ложных путей угрожают нам в научных исследованиях!.. Через сколько ошибок, в тысячу раз более опасных, чем польза, приносимая истиною, нужно пройти, чтобы этой истины достигнуть?.. Если наши науки бессильны решить те задачи, которые они перед собой ставят, то они еще более опасны по тем результатам, к которым они приводят. Рожденные в праздности, они, в свою очередь, питают праздность, и невозместимая потеря времени — вот в чем раньше всего выражается вред, который они неизбежно приносят обществу»1. А следовательно, заниматься науками — пустая трата времени.
Суждения русских философов, в частностиЯ. Бердяева (1874— 1948), Л. Шестова (1866-1938), С. Франка (1877-1950), занимающих особую страницу в критике науки, имеют огромное влияние не только в силу приводимых в них заключений, но и по яростному пафосу и трогающему до глубины души переживанию за судьбу и духовность человечества.
Бердяев по-своему решает проблему сциентизма и антисциентизма, замечая, что «никто серьезно не сомневается в ценности науки. Наука — неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться. Наука и научность — совсем разные вещи. Научность есть перенесение критериев науки на другие области, чуждые духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в то, что наука есть верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку все j должно покоряться, что ее запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование единого метода... Но и тут можно указать на плюрализм на-1 учных методов, соответствующий плюрализму науки. Нельзя, на-] пример, перенести метод естественных наук в психологию и в] науки общественные»2. И если науки, по мнению Н. Бердяева,! есть сознание зависимости, то научность есть рабство духа у низ-1 ших сфер бытия, неустанное и повсеместное сознание власти не-1
 1 Руссо Ж. Ж. Рассуждения по вопросу: способствовало ли возрожде-|
1 Руссо Ж. Ж. Рассуждения по вопросу: способствовало ли возрожде-|
ние наук очищению нравов. Трактаты. М., 1969. С. 20.
2 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.(
С. 264-265.
обходимости, зависимости от «мировой тяжести». Бердяев приходит к выводу, что научная общеобязательность — это формализм человечества, внутренне разорванного и духовно разобщенного. Дискурсивное мышление принудительно.
Л. Шестов метко подмечает, что наука покорила человеческую душу не тем, что разрешила все ее сомнения, и даже не тем, что она доказала невозможность удовлетворительного их разрешения. Она соблазнила людей не своим всеведением, а житейскими благами. Он считает, что «нравственность и наука — родные сестры», которые рано или поздно непременно примирятся.
Шестов обращает внимание на реальное противоречие, гнездящееся в сердцевине ставшей науки, когда «огромное количество единичных фактов выбрасывается ею за борт как излишний и ненужный балласт. Наука принимает в свое ведение только те явления, которые постоянно чередуются с известной правильностью; самый драгоценный для нее материал — это те случаи, когда явление может быть по желанию искусственно вызвано. Когда возможен, стало быть, эксперимент»1. Шестов обращается к современникам с призывом: забудьте научное донкихотство и постарайтесь довериться себе. Он был бы услышан, если бы человек не был столь слабым, нуждающимся в помощи и защите существом.
Однако начало третьего тысячелетия так и не предложило убедительного ответа в решении дилеммы сциентизма и антисциентизма. Человечество, задыхаясь в тисках рационализма, с трудом отыскивая духовное спасение во многочисленных психотерапевтических и медиативных практиках, делает основную ставку на науку. И как доктор Фаустус, продав душу дьяволу, связьшает именно с ней, а не с духовным и нравственным ростом прогрессивное развитие цивилизации.
В условиях маскулинской цивилизации особняком стоит вопрос о феминистской критике науки. Как известно, феминизм утверждает равенство полов и усматривает в отношениях мужчин и женщин один из типов проявления властных отношений. Феминизм заговорил о себе в ХУШ в., поначалу акцентируя юридические аспекты равенства мужчин и женщин, а затем в XX в. — проблему фактического равенства между полами. Представители фе-
 1 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991. С. 37.
1 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991. С. 37.