
Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Лао-цзы и его книга
|
|
Лао-цзы
Дао дэ цзин
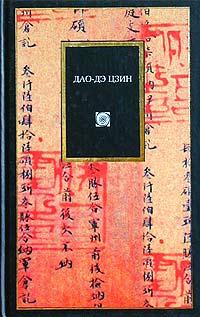
taopooh.narod.ru; текст на китайском: lingvochina.ru
Аннотация
В настоящем издании публикуется перевод самого читаемого и перечитываемого во всем мире даосского канона «Дао дэ цзин», который выполнен известным отечественным китаеведом Владимиром Малявиным с учетом новейших научных данных и снабжен подробными примечаниями и комментариями.
Книга рассчитана как на специалистов-китаеведов, так и на широкий круг читателей, интересующихся философией и культурой Востока.
Лао-цзы
ДАО ДЭ ЦЗИН
ВСТУПЛЕНИЕ
Лао-цзы и его книга
Утверждают, что книга Лао-цзы занимает после Библии второе место в мире по числу иностранных переводов. В США, например, каждый год появляется новое издание «Дао дэ цзина». Да и Россия в последнее время, по крайней мере по этому показателю, почти не отстает от Америки.
Для чего еще один перевод хорошо известного китайского канона? Главная причина, конечно, личная. «Дао дэ цзин» стал для меня самым потрясающим открытием в моей не самой короткой жизни переводчика китайской литературы. Нет сомнения, что этот маленький шедевр древнекитайской мысли достоин своей всемирной славы и заслуживает самого тщательного изучения. Есть и объективные причины. Ни один из новейших русских переводов не учитывает в должной мере найденные недавно древние списки книги Лао-цзы, а равным образом – смысловые оттенки оригинального текста и китайскую комментаторскую традицию. А если принять во внимание, что в наше время быстро растет число импровизированных «переводов», которые являются в действительности вольным изложением и интерпретацией древнего китайского канона, то приходится признать, что мы более чем когда-либо нуждаемся в понимании Лао-цзы, основанном на внимательном прочтении его книги.
Разумеется, такое понимание не дается легко и быстро. Сам Лао-цзы, как и подобает автору столь знаменитой книги, – личность легендарная и даже в своем роде глубоко загадочная. Чего стоит хотя бы само имя Лао-цзы, которое означает буквально Старый (а может, и «изначальный», и «вечный») то ли Учитель, то ли Ребенок. Предание дает такое объяснение этому странному парадоксу: Лао-цзы, гласит оно, пробыл в утробе матери 80 лет и родился уже стариком, выйдя на свет из ее левого бедра. Впрочем, по другим легендам, Лао-цзы родился от самого себя, из себя же развернул этот огромный мир и сам 72 раза являлся миру. Что же касается, так сказать, официальной биографии загадочного старца, которую написал древний историк Сыма Цянь, то в ней соединены рассказы о трех разных лицах. Согласно наиболее известному варианту жития даосского патриарха, Лао-цзы носил фамилию Ли, а имя Эр (что значит «ухо») и был выходцем из южного царства Чу, точнее, из земель, первоначально входивших в удел Чэнь (это владение было поглощено Чу в 535 году до н. э.). Ли Эр прожил долгую и неприметную жизнь, много лет занимая должность хранителя архивов при дворе правителя Чжоу. Отсюда распространенное в древнем Китае мнение о том, что школа даосов зародилась от придворных историографов. По преданию, с Лао-цзы встречался Конфуций, расспрашивавший его о ритуалах. Этот рассказ появился довольно рано и, возможно, имеет под собой какие-то основания. Во всяком случае, последователи и потомки Конфуция никогда его не опровергали. Все прочее в биографии Сыма Цяня явно относится к области легенд: Ли Эр, предчувствуя гибель Чжоуской династии, уезжает верхом на «темном быке» в Западные страны, оставив начальнику пограничной заставы по имени Инь Си, свою знаменитую «книгу в пять тысяч слов». Этот страж китайских рубежей под именем Гуань Инь-цзы (что значит Ученый Инь с Заставы) тоже стал почитаемым даосским учителем. Таким образом, согласно преданию, Лао-цзы написал свой шедевр в один присест и вследствие случайных обстоятельств, по принуждению своего почитателя. В этом собрании экзотических фактов есть только одна бесспорная истина: повода для написания великой «книги в пять тысяч слов» в действительности и не было, ибо намерения ее автора, кто бы он ни был, заключались как раз в том, чтобы освободить жизнь от диктата слов, а слова – от пристывших к ним значений. Какой блистательный парадокс: «пять тысяч слов молчания» (выражение И. И. Семененко) оказались лучшим памятником китайской словесности!
Другая версия жизнеописания Лао-цзы отождествляет его с неким мудрецом по имени Лао Лай-цзы, тоже уроженцем царства Чу, который написал какую-то «книгу из 15 глав». Наконец, третья версия изображает Лао-цзы дворцовым архивистом по имени Дань (что значит «длинное ухо»), который жил на сто лет позднее Конфуция и встречался с правителем царства Цинь. Именно с этим Лао Данем даосский патриарх отождествляется в древней даосской книге «Чжуан-цзы».
Вот то немногое, что известно о жизни Лао-цзы. В этих рассказах есть занятные детали и эпизоды, вызывающие горячие споры среди китайских эрудитов, но нет сколько-нибудь надежных исторических свидетельств. Сам Сыма Цянь не решается судить об их достоверности.
Приходится определять время и место создания «Дао дэ цзина», исходя из его содержания и лингвистических особенностей текста. Но и на этом пути получить сколько-нибудь надежные данные не удается. Среди специалистов есть и сторонники традиционной точки зрения, согласно которой Лао-цзы действительно был старшим современником Конфуция и оставил потомкам собрание своих гениальных изречений, и скептики, отрицающие существование Лао-цзы и датирующие появление «Дао дэ цзина» серединой III века до н. э. или даже еще более поздним временем. Есть и приверженцы «компромиссной» точки зрения, полагающие, что книга Лао-цзы появилась в середине IV века до н. э. или несколько ранее. Здесь нет необходимости вникать в детали дискуссий вокруг датировки «Дао дэ цзина». Каждый ее участник способен отыскать в этой книге косвенные свидетельства в пользу своей точки зрения, но ни одно из этих свидетельств не является вполне убедительным и не проливает свет на становление «Дао дэ цзина» в целом.
Впрочем, некоторую ясность в этот вопрос внесли недавние открытия китайских археологов. В 1973 году, близ деревни Мавандуй (пров. Хунань) было раскопано захоронение, датируемое 168 годом до н. э., и из него было извлечено несколько хорошо сохранившихся рукописей, в том числе два списка «Дао дэ цзина» на шелке. Более ранний из них – так называемый список А – датируется рубежом III–II веков до н. э. и записан принятым до эпохи Хань письмом «малая печать» (сяо чжуань). В мавандуйских текстах отсутствует разделение на отдельные главы, хотя в тексте А встречается знак пунктуации, отмечающий начало главы. В целом композиция мавандуйских списков почти совпадает с традиционным текстом канона, хотя их лексика и стилистика имеют свои особенности. Нынешней второй части «Дао дэ цзина» там отводится первое место, что, возможно, не является случайностью ввиду того, что первый толкователь этой книги, философ Хань Фэй (середина III в. до н. э.) начинает цитировать текст Лао-цзы как раз с первого изречения второй части. Главное же – в найденных списках имеются заметные расхождения, обусловленные неоднократным копированием, и это обстоятельство позволяет отнести появление первоначального списка книги по крайней мере к началу III века до н. э. Кстати сказать, самое раннее свидетельство существования книги Лао-цзы в литературных источниках относится к середине III века до н. э., когда философ Хань Фэй создал свой политический трактат. Хань Фэй приводил многочисленные выдержки из сочинения Лао-цзы, которые полностью соответствуют дошедшему до нас тексту.
Исследователи по-разному оценивают значение находок в Мавандуе. Так, И. И. Семененко, слишком поспешно следуя мнению ряда китайских ученых, считает, что эти тексты «отличает недостаточно высокая культура переписчиков, обусловившая разного рода текстовые искажения», [1]и в дальнейшем вовсе не обращается к мавандуйским спискам в своих довольно подробных толкованиях «Дао дэ цзина». Р. Хенрикс, посвятивший мавандуйским текстам специальное исследование, полагает, что они «не дают оснований для радикально нового взгляда на философию [“Дао дэ цзина”]. Различия здесь более тонкие».[2]А еще один американский автор, Р. Григг, полагает, что мавандуйскими находками ни в коем случае нельзя пренебрегать, ибо они «существенно изменили контекст, в котором происходит чтение и толкование книги Лао-цзы».[3]Различия приведенных оценок объясняются, конечно, разностью задач, которые ставят перед собой толкователи даосского канона. Однако, как станет ясно ниже, для понимания культурной значимости «Дао дэ цзина» позиция Р. Григга кажется наиболее плодотворной.
Совсем недавно в местечке Годянь (пров. Хубэй), на месте столицы древнего царства Чу были найдены еще более древние фрагменты книги Лао-цзы. Эти фрагменты, записанные на бамбуковых планках, были обнаружены вместе с большим количеством других текстов (в основном относящихся к конфуцианской традиции) в могиле чуского сановника, который, по некоторым косвенным данным, был учителем наследника престола. Годяньское захоронение датируется рубежом IV–III веков до н. э., но найденные тексты, по общему мнению специалистов, представляют собой копии более древнего письменного источника. Поэтому можно с уверенностью предположить, что книга Лао-цзы в том или ином виде уже имела хождение по крайней мере с середины IV века до н. э., а скорее всего – и с более раннего времени. Правда, тексты из могилы в Годяне не составляют цельной книги: одна из глав, например, повторяется дважды, а планки, на которых записаны фрагменты будущего «Дао дэ цзина», составляют три связки (их принято называть Лао-цзы А, Лао-цзы В и Лао-цзы С). В одной из этих связок (Лао-цзы С) фрагменты «Дао дэ цзина» дополняются отдельным сочинением на космогонические темы. Порядок фрагментов совершенно не соответствует традиционной нумерации глав, но есть основания полагать, что тексты внутри каждой связки были собраны по определенному тематическому признаку: почти все фрагменты в связке Лао-цзы А касаются искусства управления государством, а фрагменты в связке В имеют отношение к телесно-духовному совершенствованию мудреца.
Годяньские фрагменты охватывают лишь около трети традиционного текста «Дао дэ цзина». Неясно, по какому принципу они были отобраны, но маловероятно, чтобы они составляли первоначальное ядро будущего канона, – слишком неоднородны они по своей тематике. Правда, заметно отсутствие суждений с «метафизической» символикой, которые вызывают наибольший интерес у западных читателей. Нет в этих текстах и каких-то сведений, позволяющих существенно уточнить раннюю историю канона. Наиболее интересная гипотеза принадлежит китайскому исследователю Го И, который предположил, что «Дао дэ цзин» имеет два источника. Один из них восходит к архивисту Ли Эру, жившему во времена Конфуция, и именно это сочинение было найдено в Годяньском захоронении. Второй прототип будущего «Дао дэ цзина» был создан чжоуским историографом Лао Данем в начале IV века до н. э. Этому автору, по мнению Го И, в основном принадлежат главы об «искусстве правителя», на которые ссылается Хань Фэй.
Тексты из Мавандуя и Годяня требуют кропотливой археографической и текстологической работы. Они изобилуют фонетическими заимствованиями (когда иероглифы записываются по признаку фонетического сходства) и нестандартными начертаниями знаков. Нередки в них и ошибки переписчиков. Но при всем несовершенстве они существенно расширяют наше понимание текста «Дао дэ цзина» и в ряде случаев позволяют скорректировать или даже переосмыслить его традиционную версию. В целом они дают больше аргументов противникам «гиперкритического» отношения к «Дао дэ цзину», которое было особенно влиятельно в 20-40-х годах XX века. Оказалось, что многие фразы, которые филологи-скептики того времени сочли позднейшими вставками, присутствуют уже в годяньских фрагментах.[4]Исключение составляют, пожалуй, лишь концовки глав, которые начинаются словами: «Вот почему мудрец…». По мнению Д. Лау, подобные фразы были добавлены к первоначальному тексту позднее. Догадка Д. Лау как будто подтверждается годяньскими фрагментами, в которых в ряде случаев отсутствует такая характерная для традиционного списка концовка.
Древнейшим литературным свидетельством о книге Лао-цзы можно считать уже упоминавшийся выше трактат Хань Фэя, где дается толкование многих изречений родоначальника даосизма. Правда, Хань Фэй привлекает суждения Лао-цзы для обоснования собственных взглядов и толкует их вполне произвольно. В те времена книга Лао-цзы еще не получила своего всемирно известного заглавия «Дао дэ цзин», то есть «Канон Пути и Совершенства» (не было употребительно и самое словосочетание дао-дэ). Ее стали называть так позднее – в царствование Ханьской династии, причем первая часть именовалась «Канон Дао», а вторая – «Канон Дэ». Впрочем, традиционные названия частей «Дао дэ цзина» зафиксированы еще в мавандуйских списках. По мнению Д. Лау, они обязаны своим появлением, как и названия глав в сборнике изречений Конфуция «Беседы и суждения», чисто формальному обстоятельству: эти части начинаются соответственно со знаков дао и дэ. Другие исследователи полагают, что названия частей отражают их содержание.
Первым толкователем собственно «Дао дэ цзина», чье имя сохранила история, был Янь Цзунь (69–24 до н. э.) – ученый, ушедший со службы и приобретший славу даосского святого. Сохранилась только вторая часть его книги «Изначальный смысл Пути и Совершенства». Впрочем, ее подлинность тоже вызывает сомнения.
Янь Цзунь разбил «Дао дэ цзин» на две части и 72 главы, полагая, что канон Лао-цзы подчиняется числам 8 и 9. Соответственно, первая часть книги в его списке насчитывала 40 глав, а вторая – 32. Однако уже современник Янь Цзуня, смотритель дворцового книгохранилища Лю Сян (79–6 до н. э.), выделял в даосском каноне 81 главу (такая композиция фактически существует уже в мавандуйских списках). Разумеется, и здесь не обошлось без магии чисел: число 81 соответствует «высшему Ян» (9× 9), то есть пику творческой силы мироздания. По традиции считается, что первая часть книги соответствует Небу (и потому имеет нечетное число глав – 37), а вторая часть соответствует Земле, и количество ее глав равно четному числу – 44.
Впрочем, традиционное деление «Дао дэ цзина» не было единственным в своем роде. К примеру, даосский автор IV века Гэ Хун различал 36 глав в первой части и 45 во второй, причем главы первой части составляли 4 группы по числу времен года, а главы второй части – 5 групп, которые соотносились с пятью фазами мирового круговорота и пятью основами морали. Комментатор XIII века У Чэн объединил ряд глав, получив их в итоге 68. Несколько позже другой комментатор, Чжу Дэчжи выделил в «Дао дэ цзине» 64 главы. Современный же текстолог Ма Сюйлун предложил различать в нем 114 глав. Многие современные издатели Лао-цзы меняют порядок глав, объединяя их по тематическим рубрикам.
Известно, что в ханьскую эпоху существовали несколько списков «Дао дэ цзина», передававшихся в рамках отдельных семейных традиций. Два из них послужили основой для классических комментариев. Один приписывается некоему Старцу на Реке (Хэшан-гун), которого предание рисует необыкновенным мудрецом, жившим в начале правления династии Хань. Документально подтверждаемая история этого комментария начинается лишь с IV века. Однако Э. Эркес и А. Чань, посвятившие комментарию Хэшан-гуна специальные исследования, считают его памятником именно ханьского миросозерцания, в котором сводятся в единую систему принципы личного совершенствования, управление семьей и государством и космологические теории.[5]Комментарий Хэшан-гуна отличается редкой полнотой и конкретностью: в нем даются простые и ясные разъяснения почти каждого высказывания в «Дао дэ цзине». Кроме того, в списке Хэшан-гуна даны тематические заголовки отдельных глав.
Второй классический комментарий, основанный на другом списке памятника, был создан Ван Би (226–249), который умер совсем молодым, но успел стать зачинателем новой эпохи в истории китайской философии – эпохи метафизических систем. Творчество Ван Би – продукт неудовлетворенности догматическим стилем мышления, которым рождена этико-космологическая система ханьской империи. Оно вдохновлено поиском «сокровенного смысла» классического наследия, который следует постигать «вне слов и образов». Тем самым комментарий Ван Би определил значение канона Лао-цзы для философского умозрения в Китае (чуть позже то же самое проделал в отношении «Чжуан-цзы» его классический комментатор Го Сян). Сформулированное Ван Би новое понимание «Дао дэ цзина» сделало возможным создание нового философского синтеза, в рамках которого традиционные учения Китая – даосизм и конфуцианство – были соединены с буддийской философией. И не случайно почти четыре столетия спустя известный ученый-филолог Лу Дэмин (564–635) утверждал, что из всех толкователей Лао-цзы «только Ван Би постиг смысл пустоты и отсутствия».
Одновременно с комментариями Ван Би появились и собственно даосские толкования «Дао дэ цзина», лежавшие в русле только что сложившейся даосской религии. Один из них принадлежал даосскому наставнику Гэ Сюаню, который жил в южном царстве У. Основная тема комментариев Гэ Сюаня – медитация, дыхательные упражнения и прочие практики, относящиеся к достижению «долгой жизни». Другое произведение такого рода – комментарий «Сян Эр», фрагмент которого обнаружен среди рукописей из Дуньхуана. Этот комментарий представляет собой образец доктринерского истолкования «Дао дэ цзина» в свете религиозных идеалов даосизма. В нем особенно заметно влияние комментаторской традиции Хэшан-гуна.
В последующие века у «Дао дэ цзина» появились и буддийские толкователи, среди которых впервые встречается обладатель императорского титула – правитель династии Лян У-ди (правил в 502–549 гг.), ревностный поклонник учения Будды. Воцарение династии Тан в начале VII века дало новый мощный толчок изучению канона Лао-цзы, поскольку правители нового царствующего дома, носившие фамилию Ли, вели свой род от основоположника даосизма. Уже упомянутый выше Лу Дэмин создал подробные фонетические глоссы. В одно время с ним ученый Фу И издал малоизвестные древние списки «Дао дэ цзина». А в 708 году в даосском монастыре Лунсин (г. Ичжоу, пров. Хэбэй) была установлена каменная стела с выбитым на ней текстом «Дао дэ цзина», и этот текст является самым древним из сохранившихся до нынешних времен списков даосского канона. Кстати сказать, среди дуньхуанских рукописей обнаружены и более десятка списков книги Лао-цзы (впрочем, все они неполные и изобилуют ошибками).
Один за другим появляются и новые толкования на «Дао дэ цзин». Сами комментарии приобретают более специальный характер. Например, Лу Сишэн создал комментарий в конфуцианском духе, Ли Янь – в даосском, а ученый Ван Чжэнь истолковал «Дао дэ цзин» применительно к теории военного искусства. В начале X века даосский ученый Ду Гуантин составил уже первую антологию комментариев, включавшую в себя выдержки из 60 сочинений.
Собственно редакторская работа в то время была еще подчинена общим представлениям о смысле и назначении культурной традиции. Многие комментаторы, например, были озабочены тем обстоятельством, что в каноне Лао-цзы не «пять тысяч знаков», предписанных преданием, а на пять сотен больше. Это объясняли присутствием в тексте служебных слов. Среди даосов в ту эпоху имел хождение список «Дао дэ цзина», который насчитывал ровно пять тысяч иероглифов и считался подлинным каноном. Впрочем, и сам канон воспринимался как всеобщая духовная матрица мироздания. Еще в середине VII века известный ученый Чэн Сюаньин в своих толкованиях на Лао-цзы называл канон «ладьей всех видов вещей». По словам Чэн Сюаньина, канон имеет три ступени проявления: во-первых, «облачные письмена сгустившейся пустоты»; во-вторых, «золотые письмена на яшмовых скрижалях, начертанные красной кистью в лесу пустоты»; и, в-третьих, «старинные письмена, написанные на орхидеевых дощечках и тонком шелку, которые стали известны в мире».
В эпоху династий Сун, Юань и Мин (XI–XVII вв.), время расцвета рациональных систем неоконфуцианства, господствуют отвлеченные философские толкования. Подавляющее большинство из них написаны с конфуцианских позиций. Текстологические исследования все еще очень редки. Осуществленная в XI веке ученым Фань Юаньином сверка существующих списков «Дао дэ цзина» осталась едва ли не единственным опытом такой работы. В первой половине XVII века Цзяо Хун составил очень удачную антологию комментариев на Лао-цзы, где наибольшее внимание уделено ряду ученых сунского времени: Люй Хуэйцину, Су Чэ, Линь Сии, Ван Юаньцзэ, Ли Сичжаю, а также У Чэну (конец XIII в.). Из буддийских комментаторов этого времени отметим монаха Дэцина (конец XVI в.) – автора оригинальных и глубоких толкований на «Дао дэ цзин» и «Чжуан-цзы».
С воцарением династии Цин в середине XVII века интерес к общим рассуждениям сменяется чисто филологическими изысканиями. В Китае наступил расцвет текстологической критики, который, впрочем, не произвел революции в мировоззрении китайцев. Действительно новый взгляд на Лао-цзы смогли предложить лишь текстологи XX века, использовавшие методы современной филологической науки: Си Тун, Ма Сюйлунь, Цзян Сичан, Гао Хэн и др. Ряд фундаментальных текстологических исследований «Дао дэ цзина» принадлежит японским ученым.
Первый перевод «Дао дэ цзина» на западный – латинский язык появился в 80-х годах XVIII века. В 1842 году в Париже увидел свет первый добротный французский перевод книги Лао-цзы, выполненный С. Жюльеном. Первый немецкий перевод В. фон Штрауса был издан в 1870-м. Несколько позднее появился и первый научный перевод канона на английский язык, принадлежавший знаменитому миссионеру-переводчику Дж. Леггу. В наши дни западные переводы Лао-цзы исчисляются уже сотнями. Правда, большинство из них относятся к жанру переложений и интерпретаций. Лишь немногие переводчики, обладающие должными профессиональными познаниями и литературными способностями, смогли создать свои оригинальные и убедительные версии даосского канона. К их числу следует отнести английские переводы А. Уэйли, Линь Юйтана, Вин-тсит Чана, Д. Лау, Р. Хенрикса, французский перевод Я. Дуйвендака, немецкие переводы Г. Дебона и Э. Шварца.
В России за последнее десятилетие появилось сразу несколько новых изданий «Дао дэ цзина». Таковы переводы И. С. Лисевича, Б. Б. Виногродского, А. А. Маслова, Е. А. Торчинова, И. И. Семененко, А. Кувшинова, А. Е. Лукьянова и других авторов. Каждый из них имеет, разумеется, свои достоинства и недостатки, разбирать которые здесь нет возможности. Перевод И. С. Лисевича выделяется изяществом слога и верностью оригиналу, но охватывает лишь первую часть памятника. В то же время новые работы почти не помогают расширить наши представления о главном даосском каноне и его восприятии в китайской традиции. Только А. А. Маслов указывает в своем переводе разночтения, присутствующие в мавандуйских списках, но делает это далеко не в полном объеме и без комментария. Находки же в Годяне остаются совершенно неизвестными отечественному читателю. За исключением толкований Ван Би, вошедших в переводы А. А. Маслова и И. И. Семененко, в новейших изданиях «Дао дэ цзина» не отражена и китайская комментаторская традиция. Пришло время восполнить все эти пробелы.
Как читать «Дао дэ цзин»
Чтобы понять «Дао дэ цзин», надо его прочитать. Занятие, приобретающее особый смысл и особую значимость, когда мы имеем дело с собранием разрозненных изречений, часто нарочито темных и парадоксальных. Афористическая речь – это язык безмолвия. Она созидается паузой, разделяющей и обступающей слова, и всегда сообщает о чем-то «другом» – неназванном, сокровенном и все же интимно внятном. С древности писания Лао-цзы были прозваны «темными». Сотни ученых людей пытались их разъяснить, плодя в результате лишь новые толкования. Но не свидетельствует ли само обилие комментариев на книгу Лао-цзы, даже независимо от намерений их создателей, о том, что понимание, к которому даосский патриарх ведет своих читателей, каким-то образом неотделимо от вечно длящегося толкования, от непроизвольных и потому неисчерпаемых метаморфоз смысла, от той игры бесконечно сложного кристалла бытия, которая, собственно, и составляет жизнь творческого сознания? И не значит ли это, что «аутентичного» текста даосского канона просто не существует и что этот канон должен снова и снова домысливаться, воссоздаваться в уме читателей?
Одно из ранних суждений, касающихся воздействия книги Лао-цзы на читателя, принадлежит ученому IV века Инь Чжунканю, который однажды шутливо заметил: «Если я три дня не почитаю “Дао дэ цзин”, язык у меня становится будто деревянный».[6]Инь Чжункань жил во времена, когда дискуссии на отвлеченные философские темы пользовались большой популярностью среди образованных верхов общества, и даосские каноны сыграли решающую роль в становлении нового умонастроения. Собственно, китайская традиция герменевтики и началась с предпринятой за сто лет до Инь Чжунканя ученым Ван Би попытки истолковать «Дао дэ цзин» как текст, хранящий в себе, по отзыву современников, «сокровенный смысл». Но еще до Ван Би среди древних китайцев прочно укоренилось мнение о том, что человеческое творчество воплощено в акте «рассеивания» (сань), то есть скольжения мысли за пределы «данности» знания, любого формального тождества. Этот акт самораскрытия мысли еще непознанному и неведомому как раз и составляет существо герменевтического усилия.
Толкование текста – это всегда ис -толкование, выход за горизонты понятого и понятного. Оно есть как бы непрерывное расширение и даже, можно сказать, рассеивание, ветвление смысла. Оно отменяет логику тождества и различия и предполагает – всегда только предполагает – сходство заведомо несходного. Речь идет о самовозрастании знания, в котором подтверждается чистая качественность опыта, о неуклонном уклонении от собственной данности, о всеобъемлющей метаморфозе как саморазличающемся различии и в конечном счете – об опознании бесконечной действенности, которая есть «иное» всего сущего и всякого действия, покой среди непрестанного волнения мира, сокровенный исток смысла как со-мыслия. Это реальность, которая сама содержит в себе условия для своего возобновления и непрерывно возвращается к себе, ускользая от себя. Она, говорит Лао-цзы, «как бы существует» и «вьется без конца». Ученый XVI века Цзяо Хун удачно определил истинный результат чтения «Дао дэ цзина», уподобив его «накоплению без накопления». Понять Лао-цзы, добавил Цзяо Хун, сможет только тот, кто способен «забыть слова и постигать сердцем».
Теперь выражение «загадка Лао-цзы», которое кажется на первый взгляд журналистским штампом, приобретает для нас глубокий смысл. Мудрость перемен, исповедуемая Лао-цзы (а вслед за ним и всей китайской традицией), требует признать реальностью самоотсутствие сущего, искать единство в акте «рассеивания», в бесконечном богатстве разнообразия. В этом нескончаемом утончении смысла, или ограничении ограниченного, в котором выявляется безграничное, есть только конкретность опыта (сама по себе вездесущая), открытость сознания бездне метаморфоз, которая не позволяет возникнуть самовластному субъекту и установить те или иные сущности. Оттого же «темные» речи Лао-цзы проговариваются как бы в сослагательном наклонении, под знаком неистребимого «как будто». Лао-цзы говорит о Матери мира, о Прародителе и даже о том, кто «как будто предшествует верховному предку», но было бы ошибкой считать подобные высказывания попыткой описать первоначало мира и создать, так сказать, миф бытия… Этот проблематичный исток сущего есть только предположительное тождество, скрытое в различении, первозданная не-целостность Хаоса или, пользуясь термином Ж. Делеза, «темный предшественник», который посредует между разнородными сериями явлений. Лао-цзы и сам говорит о наличии в его речах непостижимого для непосвященных, «прародителя», который каким-то образом собирает воедино «безымянное» и «именуемое». Это реальность, которая настолько же предположительна, насколько и предположена знанию и опыту; реальность, всегда заданная, но никогда не данная сознанию. Неощутимая и немыслимая, она предстает извечно чаемой и памятуемой.
Так истина Лао-цзы обосновывается актом растворения субъективного «я» в полноте бытийствования. Это истина именно бытийствующая; она жива и деятельна тогда, когда не предъявлена мысли. И сам образ «Лао-цзы» в китайской традиции есть только заместитель отсутствующей реальности, своеобразная анти-икона, которая устанавливает различие в видимом сходстве, стирает самое себя. Наследие Лао-цзы действительно может жить только как (ис)толкование, искусство говорить «не то» и «невпопад». Древние глоссы, определяющие смысл терминов по, казалось бы, случайному признаку омонимии, и в еще большей степени – вновь открытые древние списки «Дао дэ цзина», где немало знаков записаны по принципу того же фонетического заимствования, как раз свидетельствуют о присутствии неисповедимого «темного прародителя» всех значений. Присутствие этого сокровенного пра-слова превращает текст в тайнопись и заклинание. В таком тексте, говорит Ж. Делез, «все вещи имеют смысл при условии, что слово молчит о себе или, скорее, в слове молчит смысл».[7]Не случайно поэтому канон в Китае, как мы уже знаем, воспринимался как пред-словесный прообраз мироздания. Лао-цзы, по его собственному признанию, «наставляет без слов». Не потому, что ему нечего сказать, а потому, что он способен, как гласит позднейшая чань-буддийская сентенция, «все сказать, прежде чем откроет рот». Знаменитая первая сентенция «Дао дэ цзина» служит тому наглядной иллюстрацией: объявляя все слова пустыми и излишними, она как бы возвращает мысль к истоку всего сказанного. Первая фраза канона оказывается и последней.
Лао-цзы ищет «тихое», «пресно-безвкусное», предельно простое и безыскусное слово, которое растворяется в безмолвии вечного покоя; слово, способное освободиться от прилипших к нему значений. Простейший способ придти к такой метафизически нейтральной, но бытийно-насыщенной речи – столкнуть между собой несовместимые значения и в огне этого столкновения сжечь общепринятый смысл. «В прямых речах все говорится как будто наоборот», – утверждает Лао-цзы. В его книге можно насчитать до пяти десятков таких парадоксальных суждений, в которых противоположности уравниваются друг с другом. В подобных афоризмах менее всего поверхностного остроумия. Все они отсылают к чему-то непреложному, безусловному, всему предположенному и всему дающему жизнь – к тому, что другой даосский учитель, Чжуан-цзы, назвал «одной весной всего сущего».
Академическая наука, так жаждущая понимания, немало преуспела в том, чтобы сделать истину Лао-цзы непонятной и неинтересной широкому читателю именно потому, что всегда стремилась установить предметный смысл речений провозвестника Великого Пути. Но ни метафизические теории, ни математические схемы, особенно модные у нас в последнее время, не раскроют той последней глубины смысла, которой странные писания «Старого Ребенка» обязаны своей долгой жизнью. Структура сказки никому не интересна, кроме горсти кабинетных ученых. Сказка всегда будет интересна детям. Но пробудившееся сознание будет вечно интересоваться той пустотой, тем зиянием, которые отверзаются в нашем опыте, когда начинает звучать осмысленная речь. Речь о Пути – это меч, который рассекает формальное тождество субъекта, не оставляя на нем следов (см. притчу о таком мече на с. 482–483; та же тема гениально раскрыта в известной притче о поваре в главе III «Чжуан-цзы» (см.: Чжуан-цзы. Пер. В. В. Малявина. М., 2002. С. 73)).
Уязвленность словом внушает неведомый образ жизненной полноты и цельности. Чтобы прочитать «Дао дэ цзин», мало быть грамотным, а чтобы понять его – мало уметь логически мыслить. Здесь требуется, как заявляет сам Лао-цзы, идти всегда другим, обратным путем: разучиться читать и думать и научиться открывать себя жизни, разучиться накапливать и научиться «каждый день терять» и… давать жизни жительствовать, открывая для себя радостную легкость жизни, освобожденной от бремени дум и страстей. Это означает, что книга Лао-цзы требует чтения вдумчивого, углубленного, как погружения в трещину бытия, зияющую бездной творческих метаморфоз жизни. Это чтение, которое вырывает из автоматизма человеческой эмпиреи, взламывает скорлупу привычки, побуждает к самообновлению. Смысл загадочных речений «Дао дэ цзина» – это только открытость темному зиянию мирового Всё. Этот даосский канон, подобно Евангелию, предназначен для ежедневного чтения, ибо он в действительности не сообщает о реальности, а… приобщает к ней. Он удостоверяет высший смысл жизни.
В начале XVII столетия ученый монах Дэцин в предисловии к своему комментарию на «Дао дэ цзин» так рассказывал о своем опыте чтения даосских канонов:
«Я смолоду любил читать Лао-цзы и Чжуан-цзы, но мучился оттого, что не мог уразуметь их смысл. Обратившись к различным толкованиям, я увидел, что каждый комментатор излагает свое собственное понимание, и поэтому смысл тех книг стал еще более недоступным для меня…
В пустынных горах, проводя время в медитации и предаваясь вольным размышлениям, я брался за кисть, когда на меня вдруг находило прозрение. Порою я десяток дней обдумывал одно слово, а бывало и так, что целый год обдумывал одно речение. Лишь по прошествии пятнадцати лет я закончил свою работу. Вот так я понял, что древние не записывали свои слова легкомысленно…»[8]
Для Дэцина чтение Лао-цзы равнозначно медитации, но понимаемой не как техническое упражнение или состояние сознания, а как момент освобождения духа от предметности опыта, его самораскрытия безбрежности творческих метаморфоз существования. Действительность вечноотсутствующего постигается потаенным просветлением, которое предстает, согласно Лао-цзы, «самоуподоблением праху». Уподобиться праху означает достичь предела саморассеивания – предела метаморфоз, в котором свет сливается с мраком. Всякое помышление требует усилия, но способность открыться абсолютной открытости бытия, подобной зиянию беспредельного, бесплотного, лучезарного неба, предполагает некое сверхусилие духа, способность «оставить себя» или, лучше сказать, предоставить себе (и всему миру) свободу творческих метаморфоз, свободу быть. Быть – кем? Так ли важно это знать? Важно то, что быть самим собой означает бесконечно превосходить самого себя.
Итак, читать даосский канон – это, в сущности, все равно что дышать. Не удивительно, что чтение книг, и в особенности «Дао дэ цзина», имело в древнем Китае и иную, не оговариваемую Дэцином сторону: книгу полагалось декламировать без остановки, прерываясь лишь для того, чтобы сделать вдох (структура текста Лао-цзы со всей наглядностью об этом свидетельствует). Такая манера чтения как будто противоречит высказанному выше требованию вдумываться в слова (или, вернее, в то, что присутствует до слов), но крайности, как известно, сходятся, и мы уже знаем, почему: в обоих случаях мы наследуем вечнопреемственному, обретаем покой в движении и притом приникаем к реальности, лежащей за гранью понимания, но всегда заданной в живой непосредственности, чистой качественности опыта. Не есть ли непрерывная декламация канона – то есть словесного слепка потока бытия – воспроизведение той самой «вечно вьющейся нити», которая у Лао-цзы символизирует «предвечный Путь»? Бросив взгляд на традиционную культуру Китая, мы легко убедимся в том, что имеем дело с универсальным принципом китайского миросозерцания, который играет важную роль и в искусстве каллиграфии, и в живописи или ландшафтной архитектуре, и в боевых искусствах.[9]
Ключевое слово здесь опять-таки – «перемены» (и), которые обозначают также «легкость» и «безыскусность» жизни (то же понятие составляет заглавие главного китайского канона – «Книги Перемен»). Поистине, нет ничего более легкого и непринужденного, чем перемены в жизни, которые всегда случаются внезапно и как бы сами собой. Но чтение «Дао дэ цзина», согласно Дэцину, есть нечто большее: оно завершается событием в его изначальном смысле события или даже – сделаем еще один шаг – «событийности» сущего. Оно знаменует погружение в сокровенное, не-пространственное пространство «сердечной встречи», или, как еще говорили в Китае, «утонченного резонанса» вещей. Эта сила бытийственности бытия, круговорот вечно начинающегося Начала определяют жизнь сознания в двух ее главных модусах: памяти и воображения, даже если речь идет о воспоминании ни о чем и о чаянии невозможного. Событие «сердечной встречи» случается редко – точнее, вне субъективной длительности существования, ведь оно вмещает в себя всю бездну памятуемого и предвосхищаемого. Но только оно подлинно.
Ниже Дэцин разъясняет подробнее смысл чтения «Дао дэ цзина» как медитации.
«Сначала нельзя позволять словам книги обманывать себя. Потом нужно в совершенстве овладеть искусством успокоения себя, научиться всем тонкостям владения сердцем, и только тогда можно досконально вникнуть в корень своей духовной обремененности. В постижении самоочевидной действительности своего опыта и сокрыта радость, о которой говорит Лао-цзы. Так можно прозреть суть всех мирских событий и проникнуть в истоки всех людских чувств.
В мире же о Лао-цзы судят не по собственному опыту духовного свершения, [10]а только по его словам, и потому не могут его понять. Есть и такие, которые в безумном упоении пишут на него ученые толкования и не понимают, что его мудрость нужно постигать на путях самоуспокоения».[11]
Итак, истина Лао-цзы – это само действие, но действие совершенно особое, беспредметное и потому как бы… бездеятельное. Даосский канон – это не система философии, но и не «руководство к действию», а, скорее, указание на сами условия действенности действия. Он есть повод к нескончаемому вдумыванию – нескончаемому потому, что оно только освобождает от оков деловитого «думания».
Попробуем теперь оценить особенности языка и стиля «Дао дэ цзина».
Как уже говорилось, самая примечательная черта писательской манеры Лао-цзы – это его явное пристрастие к афористически кратким и притом парадоксальным суждениям. «В прямых речах все говорится наоборот», – таково уже знакомое нам писательское кредо даосского патриарха. Слово «наоборот» (фань) у Лао-цзы обозначает природу той самой непроизвольной и безусловной «перемены» в жизненном опыте, которая увлекает в незапамятную будущность, возвращает к вечно начинающемуся началу. Это слово указывает на «возвращение», которое всегда противоположно всем видимым тенденциям, всякому «развитию событий». Подвижник Пути воистину «живет наоборот»: он не-мыслит в мысли, не-действует в действии, не-говорит в речи, не-желает в желании. Его мудрость ставит предел всякому выражению. Но и афоризм, о чем напоминает уже греческая этимология этого термина, призван указывать предел выражения. Как литературная форма, он есть такое высказывание, которое несет в себе свое собственное ограничение, стремится упразднить самое себя, прийти к той предельной конкретности опыта, которая есть вечный исход и вездесущность «иного». Истинное обоснование афоризма заключено не в нем самом, а в чем-то другом и даже противоположном словесности – в безмолвии чистой действенности. Афоризм устанавливает не общую истину, а истинность особого взгляда на вещи. Он утверждает конкретные, исключительные, всегда «другие» качества опыта. Лао-цзы, по его собственным словам, «не похож на всех». Его мудрость такова, что он живет в мире одиноким и неузнанным. А афористическая речь – точный образ его истины как вездесущей границы, бесконечной конечности.
Любовь Лао-цзы к слову, отрицающему себя или, лучше сказать, освобождающемуся от самого себя, уже не покажется нам ни оплошностью неумелого мыслителя, ни произвольно выбранным литературным приемом, ни позой конспиролога. Она задана даосским представлением о реальности как самопревращении (превращении превращения), которое в равной мере существует и осознается, присуще и жизни, и человеческому творчеству. Парадоксальность суждений Лао-цзы есть самый верный признак осмысленности речи, и, следовательно, искренности говорящего. Что же касается повествования, то оно в даосской литературе получает форму притчи или анекдота (этот жанр представлен, в частности, в книге «Ле-цзы»). И притча, и анекдот имеют нечто общее с афоризмом, ведь они тоже указывают на реальность, пребывающую вне сказанного, и в этом смысле представляют собой способ сказать, ничего не называя.[12]
Принцип самоограничения литературной формы объясняет, во-первых, сведение словесности к толкованию и, во-вторых, идею иерархии словесности, в которой собственно сообщению отводится низшее и подчиненное место. Это обстоятельство позволяет выявить определенный порядок в организации даосской словесности. В свое время А. Уэйли высказал мысль о наличии в даосской литературе разных хронологических пластов. Древнейший ее слой он определил как «гимны для посвященных». Речь идет об изречениях, в которых содержатся разные загадочные и туманные образы, вроде Сокровенной Женщины, Матери мира, Цельного Ствола, Небесных ворот, Пустоты, Срединности и проч. Подобные образы, по мнению А. Уэйли, не были призваны что-то определить или о чем-то сообщить. Они играли роль своеобразных опознавательных знаков, указывавших на принадлежность к определенному кругу идей. Что же касается жанра притч и анекдотов, то он сложился позднее и, будучи обращенным к внешней аудитории, является ответом на вызов публичности.[13]
Было бы большим упрощением полагать, что концепция А. Уэйли описывает действительную хронологию развития даосской мысли. К тому же в ней отсутствует центральное звено даосской словесности – парадоксальные афоризмы, являющиеся, несомненно, плодом рефлексии на внутренний опыт. Тем не менее, с учетом этого звена мы можем говорить об определенной последовательности в развитии даосской словесности как формы иносказания. Если первичные метафоры являют самый простой и очевидный образ иносказательности, а парадоксальные афоризмы раскрывают антиномическую структуру смысла, то в анекдоте и притче иносказательность (и, соответственно, смысл сообщения) убраны в подтекст: и притча, и анекдот всем понятны, но всегда сообщают о чем-то неназванном и даже неназываемом. В то же время повествовательный характер сближает их с чуждым афористическому языку жанром рассуждения. Так канон, этот язык чистой действенности бытия, уступает место комментарию как форме знания о бытии.
Развивая взгляды А. Уэйли, американский исследователь М. ЛаФарг выдвинул свою гипотезу происхождения «Дао дэ цзина». По его мнению, изречения, составляющие костяк главного даосского канона, первоначально имели хождение в узком кругу образованных людей, которых М. ЛаФарг предположительно именует «лаоистами». Эти изречения употреблялись на манер народных поговорок, то есть когда для этого представлялись «подходящие случаи». Последние имели отношение либо к практике самосовершенствования, либо к полемике с враждебными школами мысли. Текст «Дао дэ цзина», продолжает ЛаФарг, был составлен «представителями лаоистской школы во втором или третьем поколении, когда они стали размышлять над традиционными устными изречениями, уже воспринимавшимися как великая сокровищница мудрости».[14]
Без сомнения, нынешний текст «Дао дэ цзина» складывался в течение длительного времени, измеряющегося столетиями. Тем не менее, это обстоятельство не снижает его ценности в рамках породившего его миросозерцания. Долгая и даже бесконечно длящаяся временная перспектива опыта и, соответственно, внутренняя прерывность, свойственная отдельным суждениям, является, как мы уже выяснили, даже необходимым условием постижения истины, которой учит Лао-цзы. Не следует также переоценивать значение факторов полемики или даже йогической практики в формировании даосской традиции. Трудно заподозрить ревностного полемиста в том, кто утверждает, что слова сообщают не то, что они значат. И столь же трудно причислить к наставникам йоги того, кто объявляет своей целью предоставить всему быть таким, каково оно есть. И полемическая риторика, и методы духовной аскезы возникают, скорее, как побочные продукты «лаоистского» наследия. Ядро же последнего составляет особая жизненная позиция и самобытный склад мышления, в которых парадоксальным образом совмещаются чистое умозрение и чистое действие, интимное и всеобщее. Этим внутренним единством запечатленного в «Дао дэ цзине» жизнепонимания, без сомнения, объясняется отмечаемая многими исследователями удивительная смысловая цельность книги, тем более поразительная на фоне ее необычайного стилистического разнообразия: прозаические фрагменты чередуются в ней с рифмованными пассажами, причем рифмы не имеют какого-либо единого образца. Композиция отдельных глав подчинена некоему неформальному, слитому с течением самой жизни порядку: здесь есть зачин, экспозиция темы и концовка, причем главы нередко группируются по тематическому признаку. В результате текст «Дао дэ цзина» выстраивается по образу музыкального произведения с его сменой ритмов и регистров, акцентами, кульминациями и вариациями темы, одним словом – с его диалогичностью и прерывностью формы, без которых не бывает истинной гармонии. Это, в конце концов, музыка самой жизни, которую нельзя сделать объектом «понимания». Ей можно только открыться. Ей нужно довериться.