
Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Предыстория математики
|
|

|
| Рис. 24. Жестовый счет от 1 до 30 у австралийского племени аранта |
Общечеловеческим способом счета являются жесты рук, обозначающие числа (рис. 24). Счет на пальцах у всех первобытных народов предшествует числительным устного языка, что отражается и в происхождении самих числительных. Во многих языках, например в африканских (зулусский и другие языки банту), числительные обозначают только действия над пальцами рук. Языки могут различаться лишь конкретными операциями счета: «семь» может означать или «согни два пальца» (на второй руке): 7 = 5 + 2 или «согни в обратную сторону 3 пальца»: 7 = 10 − 3. Исследование числительных позволяет углубиться в такую предысторию культуры, когда «ручные понятия» были необходимыми хотя бы для первобытной арифметики у всех народов.
Изучая в поведении (в том числе и бессознательном) современного человека «окаменелые» пережитки древних систем знаков, Л. С. Выготский в качестве одного из наиболее ярких примеров приводит «рудиментарную форму культурной арифметики: счет на пальцах», который обнаруживается, в частности, в поведении ребенка [35, с. 105—107]. В своей современной форме счет на пальцах связан с левым полушарием. Так объясняется то, что при одних и тех же поражениях этого полушария обнаруживается и расстройство счета, и неузнавание собственных пальцев [67, с. 186—187], входящие в так называемый синдром Герстмана.
Самое раннее упоминание счета на пальцах в магическом значении содержится в древнеегипетском заклинании для получения перевоза. Умерший царь уговаривает перевозчика (подобного греческому Харону) дать ему переправиться на восточную сторону канала в потустороннем мире. На это перевозчик ему говорит: «Величественный бог на другой стороне скажет: не привел ли ты мне человека, который не может сосчитать свои пальцы?». Но царь в ответ читает стихотворение, каждая из строк которого соответствует одному из пальцев, расположенных в соответствии с египетским счетом (см. таблицу) [68]. Когда совершался магический счет, руки держались ладонями вверх, счет велся от большого пальца правой руки до большого пальца левой руки (см. таблицу) Отдельные жесты такого рода встречаются и на египетских изображениях (рис. 25).
В культурах Древнего Востока уже отчетливо видно и другое проявление общечеловеческого стремления обозначать числа посредством иероглифов. В таких письменностях, как хеттская клинопись, было возможно написание чисел либо числительными, записанными (как многие другие слова) слоговыми фонетическими знаками, либо знаками-иероглифами. При этом почти всегда предпочитался второй способ.
| ||||||||||||||||||||
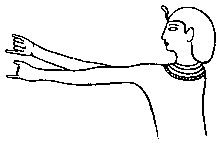
| ||||||||||||||||||||
| Рис. 25. Древнеегипетский пальцевый счет |
Подобно тому, как счет на, пальцах долго сохраняется в качестве пережитка «ручных понятий», сочетающегося со звуковым языком, обозначение чисел письменными знаками-иероглифами (наряду с фонетической их записью числительными естественного языка) остается как пережиток в современных письменных европейских языках. Его сохранению, несомненно, способствует и практическое удобство сокращенной — посредством иероглифов — записи часто повторяющихся длинных сочетаний числительных. Когда мы записываем «три» как 3 или III, проявляется особый характер обозначений чисел, тяготеющих к иероглифам (и тем самым к сфере влияния правого полушария; к ней, вероятно, относились когда-то и жесты, из которых позднее развился пальцевый счет, перешедший в число операций, находящихся в ведении левого полушария).
Есть основания видеть ранние следы пальцевого счета и в самой ранней иероглифической «письменности» человечества — знаках и зарубках, сделанных человеком каменного века. Детальный анализ этих знаков палеолита, данный недавно Б. А. Фроловым, привел его к выводу, что в них особенно выделяются группы по 5 и 10 знаков, следовательно, с помощью таких зарубок человек фиксировал результаты сосчитанного по пальцам [69, с. 116]. Поэтому ошибались те историки математики, которые после открытия первых таких зарубок поспешно решили, будто счет с помощью зарубок предшествовал счету по пальцам [70, с. 23—24].
Хронологически появление счета с использованием древнейших знаков письменности палеолита намного предшествует знакомству европейской науки с аборигенами Австралии, считавшими только по пальцам (без зарубок). Но культурное развитие человечества нельзя выстраивать по прямой линии сплошного прогресса. Средневековую науку в этом смысле можно уподобить афатику, который вновь обращается к счету по пальцам, утратив более современные способы счета В средние века для исчисления новолуний (в связи с которым, по мнению некоторых исследователей, возник развитый счет уже в палеолите) в Европе снова стал использоваться счет по пальцам [71, с. 24—25]. Но это не противоречит наличию до этого великих достижений греческой математики, как и еще более древних открытий. Углубленное изучение письменности палеолита не опровергает, а, скорее, подтверждает исключительную древность пальцевого счета, уходящего в предысторию Homo sapiens.
Счет по пальцам в его примитивной форме, предшествовавшей появлению числительных, мог быть связан, как и все системы жестов-иероглифов, с правым полушарием мозга. В пользу этого говорят свидетельства о счете на пальцах у таких австралийских племен, в чьем звуковом языке не было числительных больше «двух»: до четырех считали, повторяя слова «один» и «два», а дальше считали только по пальцам. Австралиец из подобного племени был отдан в школу европейского типа, он обучился считать до 20, но члены его племени остались безучастными к этому открытию, не имеющему никаких практических приложений. Тогда призадумался и юный австралиец: «Зачем было выучивать, что 8 + 9 = 17, если у меня нет стольких пальцев?» [69, с. 151].
Такая установка только на сиюминутную реальность, вообще типичная для «правого мозга», работающего в режиме реального времени, легко объяснима по отношению к явлениям, для обозначения которых существуют только знаки-иероглифы, которыми ведает правый мозг. Но даже и у тех индейцев Северной Америки, у которых в их устных языках есть числительные до 80, сохраняется сходная установка. Один из таких индейцев по просьбе ученых сосчитал только до 10 и добавил, что потом «ничего больше нет». Он привык пересчитывать только нечто реальное и осязаемое [69, с. 151]. Следовательно, даже и тогда, когда числа могут обозначаться словами естественного языка, по отношению к ним сохраняется установка, характерная для правого мозга, а не для левого.
Самые ранние этапы отношения к числу у первобытных племен характеризуются тем, что дикари на глаз с удивительной быстротой и точностью определяют численность больших групп предметов. Для маленьких детей характерно такое же восприятие чисел, по словам Пиаже (который посвятил особую монографию этой проблеме), образующих «целостную форму, т. е. некоторую общую поверхность, сопровождаемую более или менее смутно осознаваемым структурным сходством (без анализа деталей)» [72, с. 325].
Идея конкретного завершенного (замкнутого) множества была основной еще и для способов обозначения чисел в древнеегипетском языке и в целом ряде других древних языков, как было установлено Э. Бенвенистом и С. Д. Кацнельсоном [73, с. 136—139]. Этим, между прочим, объясняется исключительно сложная система обозначения дробей, принятая в Древнем Египте, где существовали особые таблицы дробей, типа наших таблиц логарифмов [71, с. 84—89; 70, с. 37—38]. Сами обозначения дробей были связаны с идеей завершенного числа: «две части» означало по-египетски две трети, «третья часть» — часть, образующая целое вместе с «двумя частями», т. е. одна треть [74, с. 25]. Египетские таблицы разложения дробей (типа = +) с числителем 2 на «единичные» дроби (с числителем 1), которые и были основным объектом египетских действий с дробями, интересны тем, что в них обнаруживаются наблюдения над составом целых чисел [75, с. 22].
Для того чтобы уяснить причины, по которым долгое время могла сохраняться традиция оперирования числами как конкретными целостными формами, стоит напомнить, что и современные математики и логики, характеризуя природу числа, говорят: «каждое целое число отличается от другого целого числа характерными индивидуальными свойствами — подобно тому, как различаются между собой люди» [76, с. 241]. XX век еще видел последнего крупного представителя древней индийской традиции такого отношения к числам, как к различным индивидуальностям. Исключительно одаренный математик Рамануджан, не получивший никакого систематического образования (и до своего приезда в Европу изучивший только одну книгу по математике), знал каждое число (включая и очень большие числа), о котором он думал, как своего знакомого. Ему были известны свойства чисел так, как люди знают особенности своих друзей.
Когда Рамануджан, в Англии тяжело заболевший, лежал в лондонской больнице, к нему однажды приехал его друг и соавтор, крупный английский математик Харди. Харди сказал, что номер такси, на котором он приехал, — скучный: 1729 = 7∙ 13∙ 9. На это Рамануджан возразил: «Нет Харди, нет Харди, это очень интересное число. Это — наименьшее число, которое можно представить как сумму кубов двумя разными способами: 93+103 = 13 + 123 = 1729».
Как заметил Харди в своих лекциях о Рамануджане, тот в гораздо большей степени, чем современные ему европейские математики, исходил из конкретных числовых примеров. Это особенно наглядно проявилось в его работах по проблеме разбиения чисел. В этой области Рамвнуджан получил ряд замечательных результатов, связанных с p (n) —числом разбиений натурального числа n. При поиске формулы, дающей при любом n значение р (п) с конечной ошибкой, Рамануджан изумил Харди и другого сотрудничавшего с ним английского математика — Литлвуда. Рамануджан догадался внести в ключевое выражение для этой формулы — 1/24. По словам Литлвуда, «такую догадку нельзя назвать иначе как гениальной. Во всем этом есть что-то сверхъестественное» [77, с. 45]. На протяжении своей короткой математической деятельности, оборванной ранней смертью, Рамануджан многократно угадывал приближенные выражения очень сложных функций с конечной ошибкой.
Особенности математического дара Рамануджана сказались и в том, что в полученных им формулах для бесконечных рядов [77, с. 36] общие члены ряда им не записаны. Уже имея ряд блестящих результатов, Рамануджан не представлял себе, что такое доказательство. Конкретность числовой интуиции Рамамуджана не вызывает сомнений. Кажется возможным высказать предположение, что в некоторых его математических достижениях можно видеть взлет и завершение тех возможностей, которые угадываются за египетскими действиями над дробями, с таким трудом понятыми современными математиками. Это может представить интерес и для выяснения некоторых частных проблем истории математики. Не исключено, что точные математические соотношения, предполагаемые в структуре усыпальницы в хеопсовой пирамиде, могут объясняться не развитостью геометрии у египтян [78, с. 74, примеч.], а конкретной числовой интуицией.
Можно привести пример и не математика, но исключительно одаренного современного человека, который также знал «в лицо» числа и поэтому мог запоминать на всю жизнь огромные их последовательности — С. В. Шерешевского. По его словам, «для меня 2, 4, 6, 5 — не просто цифры. Они имеют форму… 1 — это острое число, независимо от его графического изображения, это что-то законченное, твердое, 2— более плоское, четырехугольное, беловатое, бывает чуть серое…, 3 — отрезок заостренный и вращается, 4 — опять квадратное, тупое, похожее на 2, но более значительное, толстое…, 5 — полная законченность в виде конуса, башни, фундаментальное, 6 — это первая за «5», беловатая, 8 — невинное, голубовато-молочное, похожее на известь» [38, с. 18].
Нетрудно увидеть, что некоторые из повторяющихся в этом самопризнании конкретных признаков чисел объединяют те из них, которые и арифметика признает закономерно связанными друг с другом: наименьшие нечетные числа: 1 (острое) и 3 = 1 + 2 (заостренный); 2 (четырехугольное) и 4 = 22 (опять квадратное похожее на 2, но более толстое); в этой классификации, которая, как и классификационные системы дикарей, строится по нескольким перекрещивающимся признакам, 2 входит и в другую группу: 2∙ 1 (беловатое), 2∙ 3 = 6 (беловатая) и 2∙ 4 = 8 (голубовато-молочное, похожее на известь); объединяются 1 и 5 = 1 + 4 (законченный). Любопытно, что при этом, как в пальцевом счете и в графике палеолита, у Шерешевского (в чьей психике отмечены и другие черты, сходные с душевным складом ребенка или дикаря) 5 «было фундаментальным числом» и 6 определялось как «первая за 5».
Понятно, что при таком восприятии чисел как конкретных индивидов они должны находиться в ведении правого полушария: ведь именно оно может запоминать «впрок» сколько угодно новых лиц (в пределах своих огромных возможностей). Стоит отметить, что память Рамануджана (как и Шерешевского) изумляла всех его знавших: он помнил, в частности, все глагольные корни и все производные от них залоговые формы санскрита (для него — языка его касты, но не родного, что можно сравнить с ролью французского языка для русских дворян). Роль удивительной памяти Рамануджана в его оперировании с числами можно было бы пояснить сопоставлением с тем, как Выготский объяснял значение памяти в поведении примитивного человека. Она выполняла те функции, которые потом выделились из памяти [35, с. 452]. Знание системы операций над числами избавляет от необходимости их помнить.
Левое полушарие, в отличие от правого, для которого иероглиф неразложим на составные части, строит и анализирует хранящиеся и порождаемые в нем знаки языков (и их последовательности) как цепочки, что видно при сравнении больных с поражением левого и правого полушария. В левом полушарии совершаются логические операции над языковыми знаками, как и над числами.
Понимание чисел как языковых объектов, над которыми можно совершать такие операции и выстраивать их в соответствующие цепочки, и привело ко многим успехам математики нового времени. С подобным пониманием математических объектов связаны были и достижения математики, в частности, и те, которые сделали возможным создание вычислительных машин.
Предтечей такого направления по праву считают Лейбница, для которого универсальная математика — это «логика воображения» [79, с. 31]. Такую точку зрения можно признать прямо противоположной взгляду того индейца, для которого после десяти «ничего нет».
Но ошибочным было бы предположение, что обратное понимание математики в целом (не только непрерывной) как сферы деятельности, сходной — в указанном смысле — с другими проявлениями «правого мозга», в новейшее время исчезает. Напротив, оно возрождается в весьма современном виде в математическом интуиционизме. Достаточно напомнить, что Брауэр полностью отрицал связь математики с языком (в том числе и с логическим языком, который в конечном счете интерпретируется через естественный) и требовал изучать математическое мышление, а не математический язык [76, с. 256]. Для интуиционизма характерно развитие ставшего уже традиционным сопоставления математики и музыки [76, с. 240, примеч. 3, и с. 257]. В музыкальных склонностях таких математиков, как Брауэр и Вейль, можно было бы видеть психофизиологическое выражение глубоких соотношений, вскрываемых сближением интуиционизма и музыки.
Любопытно, что интуиционистская критика традиционной математики не затрагивает представлений о замкнутых конечных совокупностях, что означало как бы возврат (на новом этапе) к той самой древней математике замкнутых множеств, которая предшествовала появлению математики нового времени. Суть предлагаемого сопоставления состоит не в дополнительной критике интуиционистского подхода к математике, а напротив, в прояснении некоторых причин возрождения того понимания математики, которое возникло достаточно давно. Брауэра не умаляет сопоставление его с австралийским юношей, для которого числа, большие чем 10, были «пустяками белого человека», подобно тому, как для Брауэра был неприемлем традиционный взгляд на бесконечные множества. В той мере, в какой математическое мышление представляет собой и результат деятельности правого полушария, утверждение необходимости интуиционистского подхода оказывается совершенно естественным.
С этой же точки зрения значительный интерес может представить и цитированное выше предположение И. А. Соколянского, который хотел проверить, не окажется ли именно математическое мышление наиболее адекватным способом описания внешнего мира для тех людей, знаковые системы которых первоначально развивались именно с опорой на «правый мозг». Структура мозга Эйзенштейна согласуется и с включением в круг его пожизненных привязанностей не только музыки и зрительных искусств, но и аналитической геометрии.
Та вычислительная машина, которая должна была бы в двухмашинном комплексе моделировать работу правого («недоминантного») полушария головного мозга, скорее всего должна была бы оперировать с такими объектами, природа которых принципиально отлична от цепочек символов, с которыми имеют дело логическое и «грамматическое» (речевое — «доминантное») левое полушарие и обычные вычислительные и логические машины, моделирующие его работу. По словам Дж. фон Неймана, «в центральной нервной системе логика и математика, рассматриваемые как языки, структурно должны существенным образом отличаться от тех языков, с какими обычно мы встречаемся в нашем опыте» [80, с. 50].
С точки зрения идеи мозга как комплекса двух машин можно предположить такое развитие идеи фон Неймана: в этом комплексе одна машина (соответствующая левому полушарию) характеризуется логическим языком, в основе своей близким к языкам математической логики, тогда как для второй машины были бы нужны математические языки принципиально других типов (или логические языки, моделирующие эти языки).
На уровне нейронов (а может быть и на других «низших» уровнях) информация и в недоминантном полушарии может кодироваться дискретно. Но по главным своим функциям это — полушарие целостных («топологически связных») единиц. Поэтому оно оперирует целостными зрительными и пространственными образами, предметами, иероглифами, жестами, музыкальными мелодиями и ритуализованными фразами и именами вещей, не членящимися на единицы («буквы») в самом этом полушарии. Но каждому целостному образу правого полушария может соответствовать его представление в виде последовательности дискретных символов в левом полушарии.
Можно представить себе связанные друг с другом машины М1 и М2 (рис. 26). Из М2 в М1 по каналам передачи информации могут, в частности, передаваться некоторые адреса, каждому из которых соответствует в М2 целостный образ (пусть· и закодированный набором дискретных единиц). В М1 с этим адресом связана цепочка отличающихся друг от друга символов. Тогда М1 соответствует доминантному полушарию, разлагающему на составные части те имена, которые другое полушарие (моделируемое машиной М2) соотносит с целостными образами предметов. Число, в правом полушарии выступающее как единое целое — особый индивид, в левом предстает как элемент ряда натуральных чисел или как результат каких-либо вычислительных операций.
Если предлагаемые гипотезы (пока еще весьма предварительные) верны, то в будущем развитии моделирования функций мозга видное место может принадлежать таким новым направлениям, как математическая теория катастроф Р. Тома. С помощью этой теории можно, в частности, изучать те границы («катастрофы»), которые мозг (видимо, правое его полушарие) проводит между отдельными целостными связными образами предметов [42].
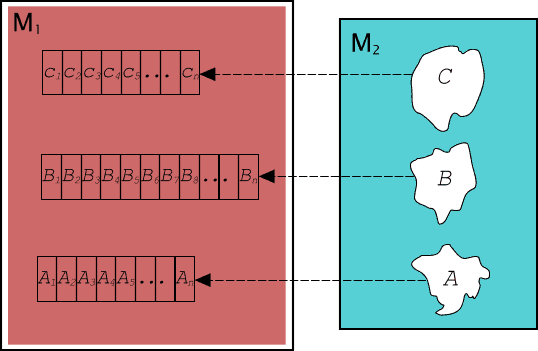
|
| Рис. 26. Схема соотношении между частями двухмашинною комплекса: М1, М2 — части комплекса; A, B, C — связные области в М2; A1, A2…An, B1, B2…Bn, C1 C2…Cn — последовательности дискретных единиц в M1 |
Решение задачи описания того, как неречевое полушарие оперирует с прерывными («катастрофическими» в смысле Тома) сочетаниями непрерывных (связных) образов, может потребовать использования тех частей аппарата современной математики, которые в очень слабой степени привлекались для исследования мозга, чаще моделировавшегося с помощью логических схем. Большая адекватность континуальных моделей для описания биологических систем отмечалась еще на значительно более ранних этапах развития кибернетики в моделях непрерывных сред, построенных в связи с изучением сердечной деятельности [7, с. 183, 190],
Несомненно, что к сходным выводам подводят и некоторые из новых физиологических работ о языках мозга, в которых недаром отмечается значение идей Тома [37, с. 421]. В таких патологических условиях, как эпилептический припадок, система нейронов в целом описывается континуальными моделями. Но аналогичные явления могут отмечаться и при нормальной работе мозга, участки которого описываются как ткани со спонтанно активными элементами [37, с. 92—100].
Применение в моделях мозга языка топологии и других методов, важных для описания связных целостных объектов, характеризующихся непрерывностью, не только дает возможность использовать в науке о человеке более развитые части современной математики, но может и привести к постановке таких задач, которые потребуют разработки принципиально нового математического аппарата. В этом отношении новейшие работы в области моделей мозга могут оказаться существенным стимулом для развития и математики, и кибернетики.
Как заметил А. Н. Колмогоров, «условные рефлексы свойственны всем позвоночным, а логическое мышление возникло лишь на самой последней стадии развития человека. Все предшествующие формальному логическому мышлению виды синтетической деятельности человеческого сознания, выходящие за рамки простейших условных рефлексов, пока не описаны на языке кибернетики» [81, с. 54].
Решение задачи описания этих «дологических» форм сознания, к которой стремились и такие крупнейшие наши теоретики искусства, как Эйзенштейн [40, с. 62—137], представляет исключительный интерес для всех тех форм знаковых систем, которые по своей структуре отличны от логических языков. В раннем искусстве могут преобладать правополушарные целостные образы, позднее взаимодействующие с логическими понятиями.
Н. А. Бернштейн с большой четкостью на современном кибернетическом языке указал на различие (намеченное в физиологии еще раньше) между «дологическим» типом работы нервной ткани и теми эволюционно более новыми системами нейронов, действующих по принципу «все или ничего», которые преимущественно интересовали кибернетиков. От таких «канализованных» неокинетических («новодвигательных») форм передачи нервных сигналов Бернштейн отличал формы палеокинетические («древнедвигательные»), которые могут распространяться и поперек нервных волокон с диэлектрическими оболочками, не составляющими преграды для палеокинетических сигналов [18, с. 294—295].
В принципе сходная точка зрения, предполагающая роль медленных потенциалов в работе головного мозга (представляемой голографической моделью), была недавно обоснована на большом экспериментальном материале в специальной книге К. Прибрама [37].
Исключительный интерес представляет вопрос о том, не преобладает ли «голографический» («палеокинетический») тип в работе нервной ткани правого полушария в отличие от левого. Это соответствовало бы вероятному предположению об отражении в работе этого полушария черт, характерных для центральной нервной системы до появления звукового языка. Но следует подчеркнуть, что все указанные гипотезы нуждаются в тщательной экспериментальной проверке.