
Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Первофантазия(первофантазм) Вторичный фантазм
|
|
(первоначальное бессознательное) бессознательное сознательное
(вытесненное) (сны наяву)
Вытеснение, «отсылающее обратно» в бессознательное вторичные фантазмы, стало бы тем, что Фройд называет «вторичным вытеснением» или «вытеснением в последействии», Созданию или записи, фиксированию у индивида первофантазмов соответствует другой тип «вытеснения», более тесный и мифический, который Фройд называет «первовытеснение, первоначальное вытеснение» (Urverdangung). Мы попытаемся далее развить эти подходы. См. также: J. Laplanche, S. Leclaire, L’Incjnscien. Une Etude psychanalitique, in: Les temps moderns, Juillet1961.
56. Среди них необходимо выделить покровные воспоминания и инфантильные сексуальные теории.
57. Для Фройда подобные особенности покровного воспоминания подтверждают, что
оно не является подлинным воспоминанием. Но, очевидно, что среди сознательных фантазий оно единственное, выдающее себя за реальность. Настоящие сцены служат покровом первоначальных сцен или фантазий.
58. Фройд 3. Бессознательное. 1915.
59. Фройд 3. Из истории одного детского невроза. 1919.
60. Для С. Айзекс (S. Isaacs) «первичные фантазмы (phantasmes) связаны с психическими процессами, очень далекими от слов». И только для того, чтобы «иметь возможность о них говорить», мы выражаем их в речи, но вводим тогда «чуждый элемент». Айзекс, пользуясь выражением Фройда, говорит о «языке влечения»; и очевидно, что не его характер, вербальный или невербальный определяет порядок языка. Но если она смешивает язык и возможность экспрессии, тогда, может быть, она плохо представляет себе изначально заложенное во взглядах Мелани Кляйн: ее стремление уловить язык, который не был бы словами, но тем не менее был бы структурирован согласно парам противоположностей (хороший-плохой, внутренний-внешний). Смелость техники Мелани Кляйн, похоже, предполагает обращение не к непосредственному выражению жизни влечений, а к неким фундаментальным означающим.
Айзекс С. Природа и функция фантазии. S. Isaacs, Nature et function du phantasme, in: Developpment de la psychanalyse. Paris, PUF, рр. 80-85.
61. См. разные варианты формулировок С. Айзекс: «я хочу ее целиком проглотить», «я хочу сохранить ее в себе», «я хочу разорвать ее па кусочки», «я хочу ее выбросить наружу», «я хочу ее снова вернуть, мне надо сейчас ее иметь», и т. д. (Сьюзен Айзекс. Природа и функция фантазии.. S. Isaacs, Nature et function du phantasme, in: Developpment de la psychanalyse. Paris, PUF, р. 81).
62. Фройд 3. Три очерка теории сексуальности. 1905.
63. Конечно, мастурбация чаще всего предполагает воображаемое отношение с объектом; это означало бы давать чисто внешнее определение ее как аутоэротической, поскольку субъект достигает удовлетворения только от собственного тела. Но детская аутоэротическая активность, например сосание пальца, совсем не предполагает отсутствие какого-либо объекта. То, что в первую очередь определяет ее как аутоэротическую, это, как мы будем отмечать далее, особый способ удовлетворения, специфический для «рождения» сексуальности и оставляющий какой-то след в подростковой мастурбации.
64. Похоже, «первый раз желать» (Wunschen) было галлюцинаторным инвестированием воспоминания об удовлетворении». (Фройд 3. Толкование сновидений. 1900).
65. См., например, толкование Фройдовской гипотезы первичной галлюцинации у С. Айзекс: «Представляется возможным, что галлюцинация лучше выполняет свою функцию в те периоды, когда инстинктивное напряжение еще слабо выражено, например, когда младенец наполовину проснулся и только еще начинает испытывать голод (...). Затем страдание от фрустрации пробуждает все возрастающее желание, например, переживание, связанное с инкорпорацией всей груди, с тем чтобы
сохранить ос как источник удовлетворения; и свою очередь, это желт те па какое-то время будет удовлетворено всемогущим обритом благодаря способности верования и галлюцинации (...). И все же такая галлюцинация интериоризированной и удовлетворяющей груди может терпеть провал, если фрустрация продолжается, голод неудовлетворен, а инстинктивное напряжение слишком сильное, чтобы отрицаться». (Сьюзен Айзекс. Природа и функция фантазии. S. Isaacs, Nature et function du phantasme, in: Developpment de la psychanalyse. Paris, PUF, рр. 82-83).
Отметим затруднения, которые испытывает автор при возможном сопоставлении идеи галлюцинаторного удовлетворения с требованиями неудовлетворенного инстинкта, Как на самом деле мог бы младенец кормиться одним только воздухом? И если мы не улавливаем, что то, что находится под прицелом в «первичной галлюцинации», не является реальным объектом, но объектом потерянным, не молоком, а означающим грудь, Фройдовская модель станет недоступна пониманию.
66. Неверно назван психоаналитиками «объект желания»: грудь.
67. «В то время, когда сексуальное удовлетворение было связано с поглощением пищи,
влечение могло находить свой объект вовне, в сосании материнской груди. Этот объект
был полностью потерян, возможно, в тот самый момент, когда ребенок стал способен видеть весь ансамбль: лицо, которому принадлежит орган, доставляющий удовлетворение. Начиная с этого момента, влечение становится аутоэротическим...» (Фройд 3. Три очерка теории сексуальности. 1905).
Отрывок важен еще потому, что содержит объяснение (слова, выделенные нами): само построение аутоэротической фантазии уже предполагает не только парциальный объект (грудь, палец, принятый как заместитель), но мать как целостную личность, которая стирается в тот самый момент, когда делается целостной. Это «целостность» может быть понята не столько на уровне восприятия гештальта, сколько исходя из требования ребенка, которое мать соглашается выполнить или отвергает.
68. То, что некоторые аналитики называют «анобъектной стадией», в рамках генетической концепции, которую можно было бы назвать целостной, поскольку она не различает построение либидного объекта от построения объективной картины внешнего мира и стремится выделить стадии развития Я как «органа реальности». Кроме того, признается их прямое соответствие стадиям либидо.
69. Мы развиваем в другом месте (Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. Словарь психоанализа) это понятие, основополагающее для Фройдовской теории влечений.
70. В одном из первых своих размышлений о фантазме Фройд отмечает, что 1триЬе
вполне могли бы излучать фантазмы (Draft М.).
71. Фройд 3. Три очерка теории сексуальности. 1905. См. также: Влечения и судьбы влечений. 1915. Анализ пар противоположностей садизм — мазохизм, вуайеризм — эксгибиционизм. По эту сторону активной или пассивной формы фразы (видеть - быть увиденным, например) можно предположить еще форму возвратную (видеть себя самого), которая была бы, по Фройду, первостепенной. Наверное, надо бы найти тот самый первостепенный показатель, когда субъект больше не находится в пределах разного рода фантазмов.
72. «Отношения ребенка с ухаживающими лицами являются для него постоянным источником возбуждений и сексуальных удовлетворений, берущих начало от эрогенных зон. И это тем больше, чем сильнее обеспечивающее уход лицо (как правило, мать) готова засвидетельствовать ребенку чувства, происходящие из ее собственной сексуальной жизни. Она обнимает, укачивает, рассматривая его, без всякого сомнения, в качестве заместителя полноценного сексуального объекта» (Фройд 3. Три очерка теории сексуальности. 1905). Тем не менее, является общепринятым утверждение, что Фройд с большим опозданием признал связь с матерью.
| Франсис Паш ЩИТ ПЕРСЕЯ, ИЛИ ПСИХОЗ И РЕАЛЬНОСТЬ |
 |
Чтобы избавить свою мать Данаю от любовных посягательств Полидекта, Персей вызывается добыть для него голову Медузы. Он совершает свой подвиг благодаря хитрости и смелости, но также благодаря помощи Гермеса и Афины: один снабжает его оружием — острым кривым ножом, а другая — щитом. Но Медуза обладает оружием, перед которым бессильно обычное: взгляд, обращающий в камень всякое живое существо, которое перед ним предстает, даже если это происходит случайно; щит окажется необыкновенным и будет особым образом использован. Отполированный подобно зеркалу, он служит посредником и охраняет; через него Персей отыщет Медузу и обезглавит ее, так ни разу и не встретившись с ней взглядом; щит позволил Персею смотреть на нее, не подвергая себя опасности.
Каким образом действовала эта уловка? Она лишала Медузу некоего магического свойства, метафорой которого является третье измерение — глубина; именно из-за нее жалят волосы-змеи, высунутый язык, вылезающие из орбит глаза. Все это в зеркале становится плоским, несмотря на иллюзию перспективы, поскольку оно, зеркало, в своей отражающей поверхности, безусловно, двумерно, представляя собой некую фронтальную, недоступную для проникновения, плоскость. Отныне Персей может действовать, соперник окончательно стал ему параллелен, в максимальном приближении касателен (тангенционален). Реальность следует рядом. В результате обустраивается некое пространство, настоящее пространство, где можно оставаться на своем месте, или убежать, или двигаться вперед, некий путь, которым не обязательно идти, где определены границы его свободы.
Ему противостоит пространство зачарованное, и в нем оказываются заключены жертвы Медузы, связанные с ней силовыми линиями, они обречены быть поглощенными или захваченными Горгоной, а то и превращенными в камень. На этом пути нельзя остановиться или остановить чудовище. Вот такое королевство необходимости, поле непрерывности. Напротив, благодаря зеркалу, Медуза не только может быть настигнута, но на нее также возможно будет смотреть. Едва уловив ее парализующий взгляд, зеркало гасит его подобно тому, как кристалл гасит поляризованный свет: и только тогда она, наконец, воспринята, то есть может быть поймана, постигнута в бесконечной последовательности своих профилей, теперь один из них всегда виден во фронтальной плоскости. Медуза стала неотъемлемой частью внешней реальности, видимой в зеркале; на мгновение она возродилась к той жизни,
из которой была изгнана проклятием Афины. Лишенная своей магической силы, зачаровывающего колдовства, она первой снова обрела свободу, могла бы на самом деле защищаться и даже победить, если бы ив спала, если бы Афина не протянула Персею щит и не направила его руку.
Так Медуза фактически стала образом реальности, той реальности, которую мы бы с удовольствием определили как потусторонний по отношению к некой поверхности мир, сотканный из рядоположенных совпадений а, точнее, из свободы живых и из случайных совпадений вещей и событий.
Теперь давайте зададимся вопросом о природе чудесной уловки, которая защитила Персея от чар и помогла изгнать Медузу. Этот щит напоминает нам другой, уже привычный для нас механизм, а именно противовозбуждение системы восприятие-сознание. Поверхность, проекция некоей поверхности как характеристика Я1: в противоположность нижележащей области, вглубь которой проникает, запечатлеваясь там, сырой материал воспоминаний, по ней внешние возбуждения скользят, не оставляя следа, но, как бы в качестве компенсации, это легкое касание порождает сознание.
Речь идет не только о сознании чего-то происходящего на периферии существа, но, главным образом, того, что нечто существует вне этого существа, в таком-то месте, на таком-то расстоянии, имеет такую-то форму и такой-то цвет и, если касание имеет место, такой-то вес и такую-то плотность. Оно (сознание) отсылает к тому, откуда нечто пришло, с тем чтобы, по утверждению Канта, «Точка О была воспринята в точке О». Фройд предупреждает, и мы к этому вернемся, что этот щит также сделан из мертвого материала, подобно металлу щита Персея.
Предположим, что Персей, его щит, Медуза2, иными словами, субъект, система восприятие-сознание и вовлеченная в отношение внешняя реальность являются тремя элементами, составляющими некую структуру, систему, элементы которой могли бы быть взаимозависимыми, подчиняясь неумолимому закону объединяющей организации. Но мы хотели бы утверждать как раз обратное.
Это приспособление, напротив, является тем, что разрывает любую причинную цепочку, распарывает любой шов, заставляя спускаться петли любой ткани, сотканной в соответствии с символическим, поскольку возвращает вещи и людей на их место в свободном пространстве.
Это свободное пространство, пространство восприятия, которое по необходимости не стягивается, превращаясь в плотный войлок; и нам не так уж важно, что этот войлок спрессован из причин и следствий, обреченных на то, чтобы, постепенно складываясь, войти друг в друга, как трубы бинокля, где близкие означающие склеиваются в соответствии с метафорой или метонимией, достигая захвата всей массы реального.
1 Фройд 3. Я и Оно. 1923. (Здесь и далее при ссылках на труды 3. Фройда автор указывает название источника и дату его первого издания на языке оригинала). — Примеч.Н. И. Челышевой.
2 Было бы, наверное, полезно снова обратиться к критическому рассмотрению платоновского идеализма, исходя из параллели между этим мифическим эпизодом и аллегорией пещеры в «Республике». Не менее интересно рассмотреть вопрос о запрете в православной церкви любого трехмерного представления божества и об отсутствии перспективы в иконах раннего периода.
Пространство восприятия прерывисто, неоднородно, лакунарно, и именно в его дырах, разломах и пробелах Персей и многие другие способны двигаться, не ставя перед собой в обязательном порядке цель убить: ведь можно, например, связать.
Все это приводит нас к вопросу об инвестировании объектов внешнего мира в процессе восприятия.
Воспринимать — значит действительно выходить из себя, но совсем не для того, чтобы потом вернуться обратно в себя, следуя метафоре амебы. Нет! А для того, чтобы там оставаться. Последнее предполагает, что мы там находимся, пока объект перед нами, и приспосабливаем его зрительно на заданном расстоянии. Это и есть восприятие, а также любовь (они, возможно, имеют одинаковую природу) и, благодаря им, с неизбежностью появляется понятие антинарциссизма1. Здесь надо отметить, что разновидности объединения антинарциссического инвестирования находятся на службе у воспринятого.
Наш тезис заключается в том, что психотик — это тот, кто не располагает щитом Персея, тот, кого взгляд Медузы повергает в тревогу, а затем обездвиживает, превращая в камень.
Вначале же она его ужасает. Именно этот ужас Фройд объясняет давлением реальности как таковой на Я. Реальности, которую лицо Медузы отображает, как нам кажется, достаточно хорошо. Вся эта копошащаяся масса из змей, высунутые языки и выпученные глаза, — позволяют отчетливо представить потенциальную опасность взлома, которая для психотика исходит извне. Любая реальность, какой бы она ни была, нападает на него, как только окажется представлена, и сразу же вслед за этим она перестает восприниматься, потому что сенсорная информация, которую она содержит, может быть сохранена только как угрожающая. Один только щит, подаренный приемной матерью — Афиной, матерью без мужчины, мог бы его защитить, но именно щита и не хватает. Она не дала его психотику, а может, он сам не смог получить эгиду, позволяющую противостоять «потрясающим внешним энергиям». Эту материнскую несостоятельность, недостаток, Фройд описывает иначе; он говорит нам, что чрезмерное развитие головы Медузы призвано скрыть некое отсутствие, дыру, а именно ощущаемое как кастрация отсутствие материнского фаллоса. Но, как известно, кастрации предшествует, одновременно ее предвосхищая, разделение с матерью. Отношение Медуза-жертва отличается от отношения Медуза-Персей не отсутствием щита, но присутствием отсутствия щита; и здесь мы также встречаем три термина, но, в отличие от ансамбля Медуза, щит, Персей, здесь речь идет о некоей структуре, где термины взаимообусловлены. Мы знаем, к чему ведет их взаимодействие: к тому, чтобы заключить в нем самом состояние остолбенения Медузы. Греческий глагол, от которого происходит слово Медуза, означает измерять, дозировать, поддерживать в определенных границах, иначе говоря, обращать в камень, поскольку воспринимать, действовать — значит выходить из пространственных границ собственного тела. Медуза держит свою добычу на голодном пайке, она ее заключает в ней самой.
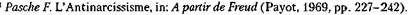 |
Такое полное замыкание на самой себе предполагает, что Медуза, бросив роковой взгляд, перестает существовать для оцепеневшей от ужаса жертвы, которой остается только лишь пустота1.
В этот момент, с точки зрения Фройда, субъект инкорпорировал эрекцию вставших пенисов (голова Медузы), но, пытаясь нейтрализовать их потенциал, их движение собственным противоположным движением, приклеиваясь к этой активности в качестве пассивного двойника, к этой мужественности в качестве женского начала, через это столкновение противодействующих сил (инстинкт жизни и инстинкт смерти) или, по выражению Тауска, через взаимное блокирование агонистов и антагонистов, он пришел к неподвижности кататоника. Идет ли речь об интроекции? Нет, если мы предполагаем интроекцию в себя некоего образа, представления. Потому что представление может быть производным только от восприятия, а реальность, едва вторгнувшись в мир психотика, перестает восприниматься. Мы могли бы предположить, что реальность субъектом поглощена, или что она его захватывает, во всех случаях она оказывается установленной в нем целиком, как блок, и там укрепляется, занимая место во внутреннем пространстве, предназначенном предоставлять свободу действия, и эту свободу она вытесняет. Именно из-за того, что реальность была там заключена, она может вновь находить выход в форме проекции (галлюцинации и т. д.), возвращаясь туда, откуда пришла. Речь не идет о вытеснении, субъект в какой-то части стал внешней «реальностью», а не просто располагает ее образом; и неудивительно, что этот образ не удается обнаружить потому, что он представляет собой трехмерную модель, которая является частью субъекта и заключена у него внутри. В результате реальность не подвергается исключению, она инкорпорируется, а поскольку реальность проявляет себя в намерении (подвергнуть осаде), субъект присваивает само намерение. Он одержим, и это есть нарциссическая идентификация.
Такое присутствие в глубине души и тела некоего чужеродного побуждения, своего рода воплощенной другой «воли», которую субъект к тому же принимает, лежит в основе психотической диссоциации, удвоения Я, определяющего психоз. В результате оказывается, что присутствуют два Я: соперничая друг с другом, они врезаны одно в другое и начисто лишены той пустоты, которая является своего рода внутренним порогом для проекта Я в хайдегеровском смысле. «Объект», другой субъект заполняет эту пустоту, которая вновь обнаруживается по ту сторону этой пары, вокруг них, а не между ними с тем, чтобы их разделять. Все находится в теле и больше его не покидает.
Аналогия с меланхолической депрессией (которая психозом не является), внесет ясность в наши предположения. Меланхолик интроецируют тень объекта, психотик одушевленное тело объекта. Меланхолик имеет ступенчатую иерархическую структуру и проецирует объект в некую ограниченную часть самого себя, предоставляя его, таким образом, в распоряжение высшей инстанции, они
1 Жена Лота была превращена в соляной столб из-за того, что хотела вновь увидеть Содом и Гоморру, о которых нам известно лишь то, что они скрывали направленные на ангелов мужские желания (эрекция).
располагаются на разных уровнях, и именно это различие меланхолик стремится сделать непреодолимым. Сверх-Я обожествлено, а Я принижено. В психозе оба Я, присутствующие благодаря инкорпорации, имеют одинаковую ценность и стоят в одном ряду: Шребер становится достойной супругой Бога, а, поскольку здесь нее происходит в одном плане, также и супругой Я-тела. Наконец, если восприятие внешнего мира продолжает существовать для депрессивного человека, для психотика на границе оно оказывается упраздненным.
Созданный таким образом способ связи между двумя «персонами», неделимый и исключительный, является прототипом всякого психотического отношения.
Все происходит между двумя этими полюсами и нигде больше. Привлечение-отвращение, съедающее-съеденное, дробящее-расчлененное, кастрирующее-кастрированное, вторгающееся-пронзенное, преследующее-преследуемое, бьющее-побитое, видящее-увиденное. Здесь субъект находится не в себе самом, а в общем процессе, там и более нигде, в психозе. Мы возвращаемся в кляйнианскую вселенную параноидной и депрессивной фаз, а также к садомазохистической игре и вуайеризму-эксгибиционизму, когда реальный партнер оказывается ни причем. В этом случае отношение непосредственно и неизбежно, время и пространство сжаты до точки, до моргания, а мысль или действие псевдо-другого достигает того из пары протагонистов, кто требует в данный момент статуса Я, со скоростью света1. Нет больше движения, а есть последовательность кажущихся мгновенными изменений, вспышек. На самом деле ничто не шелохнется в мире психоза.
Во всяком случае, в этом пространстве есть только одно измерение: третье, объединяющее эти две взятые вместе «персоны» в некоем неустранимо саггитальном пространстве. Это пространство не совпадает и не сочленяется с пространством восприятия (где различается субъект, располагающий полем, и его объекты), а его исследование не может дать нам никаких знаний о последнем, оно не является истиной другого, психоз не является истиной воспринимаемого мира, впротивоположность точки зрения антипсихиатрии. Поспешим добавить, что психотик осознает другую, ускользающую от восприятия истину, истину направленных на него бессознательных намерений и желаний некоего как бы покрытого глазурью объекта, истину распространения инсайта, которого психоаналитик не должен быть лишен, но при этом он не должен быть чем-то исключительным по отношению к правильному восприятию.
Такая борьба пар, где один всегда или альтернативно будет жертвой другого, сразу же вызывает в памяти первосцену. Мы действительно считаем, что мнестическая схема сцены, более или менее оживленная сложившейся ситуацией, предоставляет информацию этому внутрипсихическому отношению. Мы считаем, что не-психотик может поставить сам для себя такой спектакль, присутствовать на нем в качестве третьего, даже если сам принимает в нем участие, а психотик принужден туда войти и уже более не выйти, он словно стремится занять вакантное место одного из партнеров. Голова Медузы, вместе с пустотой (шрам от кастрации, вульва), откуда она появляется и которую никакой щит не в состоянии изгнать, отображает первосцену.
1 Франсис Паш, возможно, устанавливает здесь связь с метким выражением Биона о том, что проективная идентификация действует со скоростью света. — Примеч. А. В. Россохина.
Но отсюда следует, что каменные статуи также должны быть истолкованы как некие первосцены, на этот раз застывшие. Стоит ли напомнить историю о том, как зубы дракона, посеянные Кадмосом, породили пары убивающих друг друга воинов, а камни, брошенные Декалионом и Пиррой, породили пары мужчин и женщин?
Первосцена, таким образом, имеет следующую характеристику: ни одно изменение не возникает ни у кого из партнеров, не вызывая изменение другого партнера или не будучи результатом воздействия этого другого. Таково наше определение структуры. Первосцена — это фактически прототип, атом, составляющий любую структуру.
Это верно и для психоза, психоз далек от того, чтобы представлять собой своего рода дыру в символическом, а, напротив, осуществляет ее заполнение. Психотик устраивает себе жилище в первосцене, довершая, таким образом, систему, ничего не оставляющую вовне.
Психозы должны фактически рассматриваться, как разнообразные по характеру смехотворные попытки разнять соединение пары в первосцене, которая, тем не менее, остается заключена в единственном теле. Самое обширное бредовое пространство (претендующее иногда на то, чтобы быть бесконечным) удерживается в границах нашей кожи. Подвергавшаяся преследованию пациентка Фройда вобрала в свое тело любимую ранее женщину вместе с ее вздыхателями и сообщниками, поскольку щелчок фотоаппарата, который должен был запечатлеть ее стыд, оказался эрекций ее собственного клитора, а этот последний стал орудием ее преследователей.1
Все это приводит нас к постановке проблемы психоза.
Обратимся к проводимому Фройдом различению между Я-удовольствием и Я-реальностью, где последнее наследует первому и от него происходит.
Мы приходим к предположению, что Я-реальности будущего психотика чего-то недостает; это что-то и есть щит Афины, подарок, который служит одновременно защитной оболочкой и зеркалом:
• защитная оболочка позволяет сопротивляться внешним силам и, в частности, отгородить сомнительные стороны матери (Медузы) а, следовательно, остаться одному и стать автономным;
• зеркало позволяет узнавать и оценивать то, что вовне, внешний мир в соответствии с «хорошими объективными критериями», а также инвестировать его в достаточной мере, уберегая себя от приступа тревоги, который вызывается взаимным столкновением двух инстинктов в присутствии объектной пустоты.
Подарок — всего лишь придаток самой Афины, своего рода защитный кожный покров; его остатком является переходный объект. Такое продолжение материнского тела сделано из мертвой материи, а, значит, не несет в себе направленные на ребенка материнские желания. Это похоже на напутствие, которое она могла бы ему предложить. Его как раз недостает будущему психотику. Пустота, занимающая определенное место, есть отсутствие матери, предвосхищающее кастрацию, и именно потому, что указанное отсутствие всегда обнаруживается в глубине сенсорных данных, они, эти данные, составляют реальность, содержащую разломы, или, точнее, реальность, постигнутую как ломаная.
1 Фройд 3. Об одном случае паранойи, противоречащем теории психоанализа. 1915
Описанный разлом неотделим от угрозы внутреннего раскола, обусловленного сверхинвестицией влечений, которая сама обусловлена полным снятием инвестиций внешнего мира и накоплением внутри энергии, несущей, в довершение всего, тенденцию разъединения.
Угроза захвата головой Медузы, то есть реальностью, опустошенной матерью, связана с неизбежностью расчленяющей диссоциации. Страх чужого лица на восьмом месяце служит тому иллюстрацией.
С чем связано снятие или невозможность инвестиций на стадии Я-реальности? Чего недостает? Является ли некое особое отношение матери его причиной?
1.Мать, слишком защищающая, не могла бы допустить выделение этих доспехов, мать слишком отсутствующая — тоже; возможно, необходима обстановка какой-то средней заботливости, но это слишком расплывчато. Мы могли бы обратиться к другому подходу, развиваемому М. Фэном. Он настаивает на важности поворота матери ребенка к отцу, мать тогда забирает назад какую-то порцию собственного нарциссизма, которым она обмазала ребенка, облачаясь в него сама, и забирая его обратно, она получает в результате, прежде всего, спящего ребенка. М. Фэн показывает формирующие свойства этой периодической материнской нерасположенности1.
2. Может быть, мы имеем дело с недоразвитием атавистических схем ощущений, которые, как мы предполагаем вслед за М. Ренаром (М. Renard), являются основой репрезентаций внешнего мира?
3. Или нам, наконец, следует отнести это на счет своего рода врожденной гиперестезии, разъединении инстинктов, которое могло бы подорвать установление антинарциссизма, важность которого для восприятия мы увидели?
Все эти три фактора существуют и взаимосвязаны.
При любом подходе остается именно упраздненная реальность, пустота, отсутствие, недостаток, вызывающие тревогу в чистом виде, ужас пустоты. Не будут ли созданные вслед за этим фантасмагории, так хорошо описанные Мелани Кляйн, в каком-то смысле паллиативом, как страшные продолжения Медузы, смягчающие ужас нехватки? Безусловно то, что мать должна оставить ребенку, покидая его, прекращая его кормить, переставая им заниматься, — это галлюцинаторное исполнение желания, но необходимо сделать акцент именно на слове галлюцинаторное, то есть I (а восстановлении некоего присутствия независимо от обещанного удовлетворения.
Мать — это не только поощряющая или наказывающая инстанция, которая более или менее приспосабливается к желаниям, но также некая конкретная реальность, поверхность, поверхность кожи, кожа мира. Кусочек именно такой законсервированной кожи Афина дарит Персею. Психоз является не детищем влечений, а скорее результатом недостаточности Я как проекции некоей поверхности. Несомненно, как раз это почувствовал Хартманн, но так плохо использовал. Персей также может смотреться в щит и, даже если бы он не обнаружил там ничего, кроме собственного отражения, этого было бы достаточно, чтобы Медуза потеряла свою магическую власть над ним. Похоже, инвестирование собственного образа является последней защитой от психоза.
1 Паш ссылается на идеи Мишеля Фэна о «цензуре любовницы». См. подробнее вступительную статью к книге. — Примеч. А. В. Россохина.
Клинический опыт без труда нас в этом убеждает. Я думаю, прежде всего, об условиях развития паранойи, которые можно свести к разрыву связи (более или менее десексуализированной) с объектом того же пола1.
Именно сходство с субъектом, в котором пол — лишь один из признаков сходства, оберегает от безумия; объект заменяет неспособность самому смотреть на себя, иметь репрезентацию самого себя. Сближение с дополняющим существом, некий гетеросексуальный опыт (см. Фройда), напротив, вызывают тревогу и диссоциацию. Два психотика, одного из которых лечила госпожа Монно, а другого — доктор Бремон, недавно принесли нам еще одно подтверждение изложенной точки зрения.
Человек, имеющий предрасположенность, может уберечься, если ему удается воссоздать с помощью другого иллюзию зеркала, как это происходит в эстрадных номерах, где помощник играет отражение. Как в таком случае не вспомнить о стадии зеркала2? Мы не помышляем об отрицании связанного с ней интереса, но предполагаем, что имеем дело всего лишь с иллюстрацией одной из фаз развития, начальный период которого предполагает инвестицию материнского тела, как первой модели, наглядного примера воссоединения и дифференциации тела, как зеркала. Тело матери — это первое зеркало.
Но для репрезентации самого себя разве не важно сначала быть увиденным своей матерью, ею воспринятым, фигурировать не только в материнских фантазмах, подвергаясь риску, который продемонстрировали нам Пьера Оланье (Piera Aulanier) и Мод Маннони (Maud Mannoni), но также за их пределами. Решающим для будущего потенциального психотика станет не только место, которое он в этих фантазмах занимает, и роль, которую он в них играет, но и то, что он будет, возможно, находиться только лишь там, отсутствуя в воспринимаемом матерью и реальном для нее мире.
Иначе чему служат все эти представления тела без головы, если не обозначению того, что он, психотик, был вынужден смотреть на себя без помощи зеркала, без помощи тела смотрящей на него матери?
Щит, который мать протягивает ребенку, как раз и есть разделяющий их барьер, он противостоит тому, что их вновь сливает, преграждает ребенку дорогу назад в материнское лоно, мешает целиком и полностью вернуться в материнскую систему.
Этим тема щита-зеркала для нас не исчерпывается. Обладая свойством отсылать образы, зрительные характеристики вещей такими, какими он их получил, щит заставляет увидеть их во второй раз, снова их удваивает, он их отражает. Подобной способности у нас нет, но она из числа сенсорных посланий, по отношению к которым мы такой способностью обладаем, я имею в виду слышимое, поскольку мы можем в точности воспроизвести сказанную фразу. Для нас легче быть эхом, чем источником. В действительности мы находимся на пути, который проходит речь, в пункте, где артикулируются наши ответы на вопросы. В то время как некий объектный образ остается у нас в каком-то смысле поперек горла, слово способно войти в нас через ухо с тем,
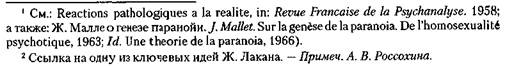 |
чтобы снова выйти через рот. И это очень близко к одномерному пространству психоза1.
Фройд нам продемонстрировал, что специфическим для речи является как раз перевод отношения, принадлежащего реальному. Некоторые современные лингвисты пытаются показать, что язык представляет главным образом присущие ему отношения. Добавлю, что пациент госпожи Монно утверждает еще следующее: «Называть по буквам значит объяснять».
Значит, если первосцена есть единство репрезентированной структуры, чувство взаимозависимости внутри некоего единого ансамбля, то основополагающая интуиция дается нам телом. Я мог бы снова вспомнить Мэн де Биран - мужчина (Maine de Biran)2. Психотик инвестирует скорее слова, чем вещи, хранит «язык тела», поскольку он не в состоянии смотреть на поверхность собственного тела или тел других, он вынужден идентифицироваться с внутренней структурой и более или менее успешно реконструировать внутри мир, но мир этот построен в соответствии с моделью функциональных корреляций внутри организма. Вербальный образ здесь гораздо более пригоден, чем образ объектный, он всегда содержит избыток означающих по отношению к их предполагаемому использованию, он вот так и присутствует в легкости дублирования существующей вещи.
Речь, которая с легкостью проходит по каналам нашего тела и так же легко преобразуется из сенсорного послания в моторику, не перестает при этом быть объектом восприятия; она может быть развернута перед лицом в качестве собственного образа, если эта речь принадлежит нам, занимая место щита, если не зеркала, когда наш телесный облик становится расплывчат, возможно, потерян, а восприятие внешнего мира несколько искажено.
Рассуждать о защите от пугающего взгляда лишенной фаллоса матери означает затронуть проблему фетишизма. Несколько месяцев назад Ив Далибард (Yves Dalibard) рассказал нам об интуитивной догадке, возникшей при изучении объектов, способных быть принятыми в качестве фетиша: туфли, чулки, белье и т. д. Он открыл, что фетиш всегда представлен образно, вместе с той частью тела, которая его несет, соединением гениталий, сжатой первосценой; и, как мне представляется, здесь имеется материал для исследований и размышлений.
Прежде всего, отметим, что все без исключения фетиши представляют собой некие оболочки, заворачивающие поверхности, кожу (даже «блеск» носа, о котором говорит Фройд): атлас, кожа, резина, волосы — все они из мертвого материала, или неодушевленные. Полый пенис? Во всяком случае, фаллос, коль скоро фаллос означает символ могущества, поскольку фетиш, с нашей точки зрения, является остатком материнской власти: власти добыть для субъекта защищающий щит.
Эта гипотеза не предполагает другие значения фетиша (пенис, экскременты); в ней никак не оспаривается роль отца, который в силу своей недостаточности позволяет все это поддерживать или делает неизбежным появление, источник гипотезы, как мне кажется, находится по эту сторону от анальных или связанных с пенисом допущений и служит их основой.
 |
Нам также представляется, что фетиш конституируется, и его основы закладываются до того, как отец предстанет обладателем полового органа и носителем закона, ребенок воспринимает внешний мир до того, как будет отмечен материнскими признаками и атрибутами.
Очевидно, что фетиш изображает первосцену в фантазмах, хождении туда-сюда, всех этих играх в прятки, играх сокрытия и обнажения, присутствия и отсутствия, идеализации и фекализации, обожания и плохого обращения — перед нами первосцена, в которой фетишист принимает участие с истинным мастерством.
Но как, все же, обстоит дело с самим фетишем, оболочкой, заслонкой, прикрывающей эту дыру; местонахождением отсутствия, то есть щита-зеркала, материнского пениса, протагониста первосцены и отца? Мы бы с радостью поддержали, что он является результатом перевода и поворота саггитального плана первосцены (которая сама переснимается с внутренних отношений организма) в некий фронтальный, устанавливаемый напротив и поэтому воспринимаемый план. Некто вышел из картины и поставил ее перед собой.
Что есть в этом от покрова? Он всегда сделан из неживого материала, который был когда-то живым или произведен из чего-то живого: кожа, шелк, хлопок, латекс, волос или их имитации, — некая мертвая структура, сохраняющая все же скелет организации. Превращение в камень, которое осуществляет Медуза, — прекрасная метафора создания фетиша, жертва сохраняет собственную форму, причем навсегда. Мы могли бы с успехом рассматривать фетиш как некий аутоскопический образ, рентгеновский портрет субъекта.
Смеем предположить, что упрощенные системы: механистические, диалектические, структуралистские, — не подверженные действию случайности, являются результатом «натурализации», фетишизации реальности1. Персей может использовать свой трофей с недоброй целью, как оружие тиранов и террористов.
Фетиш — это только лишь щит, а не зеркало; это какая-то лишенная взгляда кожа2; в ней фетишист может вновь обрести схему своей внутренней организации, но фетишист не может оставить ей, этой коже, даже малейшее дыхание жизни, под страхом увидеть ее превращение в «машину для оказания влияния», а превращение его самого в машину — психотика, и это как раз то, от чего фетиш призван его оградить.
Вот почему фетиш: чулок, трусы, эпистемологический опыт или произведение изобразительное или музыкальное, — должен отличаться от прекрасного объекта, шедевра интеллекта или искусства, к которому он, однако, очень близок (мы попытались в другом месте это показать), но ему недостает какого-то глубокого изменения, самой настоящей метаморфозы.
Недостающий элемент — это отражение, иначе говоря, взгляд матери. Взгляд, который мы попытались определить на этих страницах. Повинуясь его порядку, ребенок увиден и помещен на какое-то место, он ни желаем, ни ненавидим, а только увиден и поставлен на свое место, он рассматривается. Взгляд, в котором ребенок видит себя и остальной мир, потому что этот взгляд ничего для себя не оставляет, скрупулезно отдавая то, что получает, - даже воздух, который
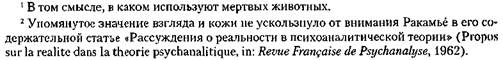 |
циркулирует между вещами, — и сами вещи, которые он ему показывает; наконец, благодаря этому факту и поверх всего, свою свободу, он ее ему отдает.
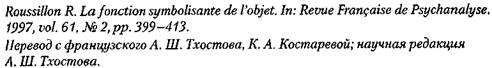 |
Реальность открывается вдвоем, нарциссизм уже не может воспринимать ее иначе, чем как фактор разрушения. Объектное отношение (вместе с тем, что оно содержит нарциссического и антинарциссического), восприятие, фиксация субъекта на его месте, свобода — существуют вместе.
Нарциссизм, отречение от реальности, вездесущность Я (которое, поспевая везде, в конечном счете, нигде не находится), необходимость (неизбежность), также существуют вместе.
Психоанализ именно и ставит задачу сделать очевидными процессы, механизмы, но ом еще должен иметь в качестве результата появление на свет так называемого персонального символа, иначе говоря, конкретной формы случайности каждого, подобно тому, как произведение искусства является таковым, только если некая манная и единственная случайность в нем просматривается.
Другой путь - тот, который нам указывает человек-машина. В таком случае, каким бы успешным ни было его функционирование, это фальшивое зеркало является индуктивным образом некой судьбы, которую Фройд развенчивает как одну из наших наиболее глубинных попыток возврата к неорганическому, куда нас увлекает лицо с выпученными глазами.
Персей, конечно, повинен в том, что доставал голову Медузы из заплечной сумки, чтобы ею воспользоваться, психоаналитик должен быть неким раскаявшимся Персеем.
Рене Руссийон