
Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
В. В. Бивихин
|
|
Воплощение, мир — два больших слова во главе теории искусства у Ганса Зедльмайра (1896-1984). Они конечно не объясняют художественную продукцию, наоборот, делают ее вдвойне загадкой. Чего простому зрителю, знатоку или искусствоведу можно с уверенностью ждать от встречи с художником, так это изменения своих прежних взглядов и мнений, какими бы они ни были. Он должен быть готов к тому, что станет другим.
Открытие предполагает открытость. Мы невольно настораживаемся, когда открытости глаз Зедльмайр заранее намечает как бы проторенный путь: сформированное зрение (gestaltetes Sehen). Кем продиктована, чем определена форма в условиях, когда правит безусловная открытость? Для отечественного слуха непривычной строгостью звучит сама четкость формулы. Не отменяет ли она непредвиденность перемены ума, неизбежной перед лицом искусства? Или западное держание формы одно только поможет сохранить голову и устоять на ногах под напором нового?
Здесь завязывается интерес чтения первоклассного историка искусства, важный сборник работ которого впервые предлагается русскоязычной публике в переводе Ю. Н. Попова. Ответ на вопрос, выходим ли мы с искусствоведением Ганса Зедльмайра в открытость мира или движемся в рамках отточенных схем, каждый читатель должен будет дать сам после прочтения книги.
Ясность здесь тем более важна, что искусство и гештальт, или умный гештальт, для Зедльмайра равновесные понятия. Какое постоянное начало вправе привносить гештальт, если искусство ведет себя каждый раз непредвиденно и непредсказуемо? Не остается ли Зедльмайр со своим высоким идеализмом в области воспоминаний о классике, успевает ли за прорывом искусства к безусловной новизне? В своей большой работе " Утрата середины"
наука об искусстве \ £ 59
Зедльмайр показал рискованную нетрадиционность новоевропейского искусства, но принял ли он ее. Хватило ли у него решимости расстаться с вековым уютом. Не возвращает ли вневременное настоящее, в которое он помещает искусство, к старой платонической идее.
Выход из тупика привычных схем обещают встречи лицом к лицу с искусством. Нельзя положиться на традиционный канон с его понятиями — длящаяся вечность, предвосхищение будущего, высшая одаренность, великая тема, — но мы замечаем вложенный в эти расхожие понятия опыт десятилетий внимательного изучения великих мастеров и завидуем ему. Он подсказывает историку искусства, что дело художника не вмещается ни в одну словесную формулу.
Надо научиться, предупреждает нас Зедльмайр, не понимать художественную волю, базовое понятие его ближайшего учителя Алоиза Ригля, в смысле какого-то сознательного решения или намеренного акта. Художественная воля не индивидуальная установка, а сила, отчетливо ощущаемая одиноким творцом как объективная власть, направляющая каждый его шаг. Ее освободительному диктату мастер подчиняется со страстью. Художественная воля, верно осмысленная, не проект, набрасываемый творческой личностью на мир, а та строгая необходимость, в которую втягивает человека искусство и в которой находит себе опору, оправдание и цель свободное искание. То же нужно сказать о воле большой культуры. Это жесткая, редко формулируемая словесно дисциплина, которой подчиняется народ, когда хочет иметь свою историю. Другое имя художественной воли — закон, не в смысле человеческого установления или природного порядка вещей, а в смысле глубокой необходимости создаваемого, innere Notwendigkeit.
Интимная нужда составляет манящую, захватывающую и освободительную тайну искусства. Его необходимость строже чем точность науки, могущей только мечтать о той безусловной самостоятельности и объективности, в которые втягивает большой художественный стиль. Наука не свободна в своих базовых понятиях. Она так или иначе привязана к сложившимся ценностям и ведущим убеждениям эпохи.
Понятие художественной воли в смысле диктата художественной необходимости и тайного строгого закона искусства, однажды достигнутое, трудно удержать в чистоте. Интуиция закономерности творчества будет снова и снова соблазнять искусствоведа на поиски универсального ключа к художественным явлениям. Если их форма действительно необходима, то нельзя ли сформулировать, каким правилам она подчиняется. Очень трудно, даже догадываясь о тождестве свободы и необходимости внутри высокого
?
260 | в. в. бибихин
наука об искусстве I 261
 искусства, отличить этот закон от канонов школы, от навыков мастерства, тоже очень строгих, но принадлежащих уже к области норм и предписаний, где складываются императивы совсем другого рода чем необходимость свободы. Всегда нелегко держаться уникальности высших достижений, гораздо доступнее прослеживать статистические, социологические закономерности. Они однако уводят от сути дела. Конечно, есть связь между нидерландским групповым портретом и социальной структурой корпораций; достаточно вспомнить о такой весомой реалии как оценка и оплата заказанных работ. Но между " Анатомической лекцией" Рембрандта со смятенным и вопрошающим мертвецом на переднем плане и на первый взгляд аналогичным групповым портретом современного ему голландского мастера, где голова анатомируемого реалистично закрыта простыней, чтобы благообразие живых не соседствовало с лицом мертвеца, разница без сравнения больше чем между групповым и негрупповым портретом. Она такая, что делает проблематичным помещение Рембрандта в ряд групповых портретистов, показывает скорее его восстание против канонов жанра. Рембрандт подчиняется своей необходимости, осуществляющей свой диктат поверх всех условностей группового портрета. Конечно, стиль эпохи достаточно жесткая вещь. Изучение его при достаточном исследовательском опыте и познаниях априори действительно дает возможность, например, дедуцировать в поздней античности из характера скульптурного портрета своеобразие энкаустики и из искусства ранней римской империи выводить художественные черты периода от Константина до Феодосия. Но подобные кунстштюки, упоминаемые Зедльмай-ром, выявляют пока еще что-то совсем другое чем мощь исторической и всечеловеческой необходимости, правящей нерядовым искусством.
искусства, отличить этот закон от канонов школы, от навыков мастерства, тоже очень строгих, но принадлежащих уже к области норм и предписаний, где складываются императивы совсем другого рода чем необходимость свободы. Всегда нелегко держаться уникальности высших достижений, гораздо доступнее прослеживать статистические, социологические закономерности. Они однако уводят от сути дела. Конечно, есть связь между нидерландским групповым портретом и социальной структурой корпораций; достаточно вспомнить о такой весомой реалии как оценка и оплата заказанных работ. Но между " Анатомической лекцией" Рембрандта со смятенным и вопрошающим мертвецом на переднем плане и на первый взгляд аналогичным групповым портретом современного ему голландского мастера, где голова анатомируемого реалистично закрыта простыней, чтобы благообразие живых не соседствовало с лицом мертвеца, разница без сравнения больше чем между групповым и негрупповым портретом. Она такая, что делает проблематичным помещение Рембрандта в ряд групповых портретистов, показывает скорее его восстание против канонов жанра. Рембрандт подчиняется своей необходимости, осуществляющей свой диктат поверх всех условностей группового портрета. Конечно, стиль эпохи достаточно жесткая вещь. Изучение его при достаточном исследовательском опыте и познаниях априори действительно дает возможность, например, дедуцировать в поздней античности из характера скульптурного портрета своеобразие энкаустики и из искусства ранней римской империи выводить художественные черты периода от Константина до Феодосия. Но подобные кунстштюки, упоминаемые Зедльмай-ром, выявляют пока еще что-то совсем другое чем мощь исторической и всечеловеческой необходимости, правящей нерядовым искусством.
Искусство выбивается из всякого ряда настолько, что только сильное желание расписать его по эпохам выстраивает его шедевры в хронологической последовательности. Сами по себе они не спешат вписаться в нее. С этим связана проблема так называемых предвосхищений и анахронизмов, к сожалению, обычно вытесняемых в разряд исключений, тогда как с равным успехом можно было бы представить себе такую историю искусства, где несвоевременность художника, например Рембрандта на его раннем, уже вполне романтическом, автопортрете, была бы принята за правило. Не обязательно бояться, что признанная за правило несвоевременность отменит всякую закономерность в развитии искусства, достаточно не смешивать свободную необходимость творчества с причинно-следственной детерминацией. Мы говорим о постоянном соблазне вывести первичный закон, уловить путь развития, сформулировать принципы художественных
явлений. Творчество все-таки или вполне свободно и тогда не имеет другого закона кроме своей внутренней необходимости, или не обязательно, и тогда скатывается до украшения беззаботного быта.
Со строгой необходимостью, тайным законом художественного творчества, мы в меру вдумывания в него соглашаемся. Зедль-майр запоминающимся образом говорит о его автономии, непро-изводности и соответственно нередуцируемости, незаменимости в хозяйстве культуры. Надличность и внеиндивидуальность искусства нам принять уже труднее. Речь о группе и коллективе в контексте диктата художественной воли настораживает. Если путь к искусству ведет не через личность художника, то не придется ли вспомнить о народном искусстве тоталитарного государства. Не пугаясь этих воспоминаний, надо взглянуть реалиям в лицо и своевременно расстаться с культом и культивированием креативной индивидуальности. Не обязательно, сначала сузив историзм до прогресса и развития, потом сомневаться вообще в законе истории. Рано или поздно мы почувствуем ее тревожную независимость от человеческих пожеланий. Если мы забудем об апокалипсисе, он сам напомнит о себе. В его свете, прав Зедль-майр, кажутся пустыми разговоры о творимой свободной личностью судьбе и о том, что история есть сумма индивидуальных поступков и частных усилий.
Конечно, теория способна только прочертить общие контуры неведомой области, в которой теряется личность. В поисках надежной опоры хочется перейти к конкретным вещам. С другой стороны, мы нуждаемся в мере, а единственная надежная мера — целое. Оценивая и сопоставляя, все так или иначе апеллируют к целому. Его нельзя оставить без осмысления. Поэтому, цитирует Зедльмайр Гёте, кто не отважится на теорию, тому останется видеть целое в рамках расхожих схем. Разоблачитель теорий незаметно для самого себя теоретизирует впотьмах. Оттого, что его настоящие убеждения ему самому не очень известны, они имеют над ним не меньше власти.
Принято думать, что всякая теория уводит от фактов, нивелирует их в обобщениях. Но дилемма погрузиться в конкретность — пожертвовать деталями ради целого вторична. Она появляется, когда упущено первичное различение между фактом и фактом. Чтобы восстановить его, Зедльмайр предлагает вообразить себе такое изучение искусства, которому в принципе не было бы известно никаких исторических, биографических, технических фактов о художественном образе, т. е. ничего кроме самого этого образа. Наука не могла бы тогда расположить произведения искусства ни по эпохам, в календаре, ни по регионам, на карте. Она что-то потеряла бы с утратой всей этой метрики. Но зато ее
 262 | в. в. бибихин
262 | в. в. бибихин
наука об искусстве \ 263
надежной опорой стала бы топика, конфигурация откровений о боге и человеке как определяющих событий истории. Такая наука не знала бы проблемы атрибуции произведений, не группировала бы творения по авторам. Тем зорче она была бы к внутреннему закону вещи и к смыслу ее необходимости. Бели бы химический состав красок и материал архитектуры и скульптуры были тоже неизвестны, наука вообще не знала бы ни одного конкретного факта о произведении и тем не менее оставалась бы полноценной наукой. Элементы такой науки существовали всегда. Так Вильгельм Пиндер, ценимый Зедльмайром, в 30-е годы сумел описать найденные позднее недостающие фрагменты Нёрдлингенского алтаря анонимного мастера, хотя ничего о жизни этого художника не знал.
Возможно полноценное искусствознание при полном отсутствии у него внехудожественных фактов и сведений. Представим себе работу историка искусства в музее, где собраны картины анонимного авторства и неизвестной датировки. Это не доказывает ненужность фактов, но показывает их странный статус. Знать их хорошо, однако понимание искусства в его существе приходит не от них и достигается помимо их. Фактография господствует в том, что сейчас называется искусствознанием. Оно оттачивает свою методику, расширяет массив разнообразных познаний. Но к важным искусствоведческим открытиям приводит только умение взглянуть на вещь без метода и судить о ней без рассуждений, отставив приемы и на время забыв известное.
Школа зрения, которой учит Зедльмайр, развертывается уже внутри этого, как он его называет, второго искусствознания. Оно проработало фактографию предмета, вышло за ее пределы и пытается вглядеться в его духовную сущность. Исходным фактом, от которого отталкивается эта школа, является то, что мы смотрим на художественное произведение всякий раз новыми глазами. Мы видим в нем всякий раз другое, как если бы перед нами менялись произведения. Каждый новый угол зрения создает новый предмет.
Здесь начинается работа. Смена впечатлений, с каждым обогащением которых возникает новая картина, не может быть остановлена. Произведение однако и не думает рассыпаться, оно остается одно и то же. Почему? Разве не потому, что мастер создал свою вещь не из частного угла зрения и заранее учел неизбежное множество точек зрения? Настоящая вещь возникает на уровне, который глубже смены аспектов. Она знает, под какую разницу глаз, на какую судьбу отдается. Великое произведение рождается там и обращено к тому, что не изменится после смены взгляда. Поэтому если вещь открывает новые и новые стороны перед нашим зрением, надо понять, что ее суть располагается не в одном
из ее смыслов, а в том, что создает их смену. Мы подбираемся к вещи ближе, когда догадываемся, что нам не перечислить все аспекты, какие она может показать.
Пытаться взглянуть на мир глазами художника в иллюзии подражания ему и самонадеянно и бесполезно. Творческое участие в произведении начинается с понимания, что первое впечатление от него сменится другим. При этом происходит не жертва конкретным восприятием в пользу обобщения, а переход от того, что так или иначе скоро, может быть после ближайшего coffee-break, изменится, к тому, что останется мною и после того, как я изменю свою точку зрения. К более настоящему мне меня зовет художник, давно, раньше чем я проснулся, метивший не в меня скользящего, а в меня стойкого.
Для полноценности восприятия искусства достаточно этого узнавания другого себя. Не обязательно самому уметь видеть и писать как Леонардо. Произведение становится моим, когда я замечаю, что уже не расплываюсь по его деталям, стараясь учесть их все по отдельности, а говорю себе что-нибудь вроде: зря он так все нагромоздил; а может быть не зря. Откуда у меня эта новая смелость? От того, что хотя вещь создана не мной, я угадал в ней то, к чему движусь сам, — не обязательно к тому, чтобы сравняться с художником, но непременно к тому, чтобы достичь такой же счастливой целости, какая ему удалась в его вещи.
В искусствознании, каким его хочет видеть Зедльмайр, происходит и еще одно важное отождествление исследователя с мастером, далекое от необязательного вживания в его первоинтуиции. Разнообразно подчеркиваемая Зедльмайром нужда в конкретном разборе отдельных произведений, пусть даже в ущерб обзорным работам, имеет тот важный смысл, что в схватке с предметом — у художника с невоплощенной идеей, у зрителя с воплощенной — природа искусства в первом случае, природа ума во втором создает себе новые органы. Жизнь художника и зрителя вступает в неожиданные, возможно, небывалые формы. Рождаются сущности, у художника и ученого по природе разные и только по своей оригинальной новизне тождественные. Война идет не за отражение наблюдаемой реальности, а за жизнеспособность новообразований, у художника рождающих, у зрителя рождаемых, у обоих способных к родам.
Рядом с этим свежим центром, новым органом жизни, еще больше бледнеет сознательная личность. В конечном счете она поддерживается только своими открытиями и находками. Лучшим историком искусства будет пожалуй тот, кто вообще уберет ее при встрече с художественным произведением. Зедльмайра в какой-то мере еще пугает требование Алоиза Ригля к искусствоведу избавить свое восприятие вещи от себя. Нас — уже вовсе
 264 I е. в. бибихип
264 I е. в. бибихип
нет. Отказ от личности не обязательно ведет к коллективизму и тоталитаризму. Важнее страха перед этими монстрами внимание к совершающемуся в искусстве озарению. У настоящих мастеров оно приходит издалека, в конечном счете от Бога.
Материалистическая, биологическая, социологическая и политическая редукции искусства закрывают эту дальнюю перспективу. С другой стороны, они служат фильтром, через который должно пройти искусствознание. Не умея толково доказать свободу искусства в противостоянии его редукциям, дешевый платонизм больше навредит чем поможет художникам. Для художников избавление от биологии и политики еще менее возможно. Это тяжести, которые они призваны нести.
К сожалению, в отношении массы искусствоведческой литературы Зедльмайр сегодня оказывается еще актуальнее чем когда он писал свои книги. Претензии на духовность в этой литературе редко обеспечены чем-то большим чем кустарная пневматология. Большей части людей, пишущих об искусстве, было бы лучше оставаться при честной фактографии. Но раз уж массовый переход к духовности произошел, путь по ступеням бесовидения через пробы и ошибки неизбежно ведет от перебора сомнительных озарений к трезвению. Зедльмайр строит науку об искусстве как историю длящегося откровения абсолютного духа через разломы и прорывы шаткой человеческой духовности. Искусство видит, пусть вспышками, выход из безысходности.
Наука о нем приобретает тогда необозримое значение. Она участвует в апокалипсисе, понимая вместе с художником, что страшный суд разыгрывается уже сейчас. Не в последнюю очередь это суд над тем, что Зедльмайр называет лженаукой об искусстве, которая прячется от бытийных решений в эстетизм. О ней см. сильный конец вошедшей в данный сборник работы " История искусства как история духа".
Художник в той мере, в какой создал произведение, создан им. Внимательный зритель в мере, в какой разбужен вещью, разбу-живает ее. Зедльмайр, хотя уже и беря ее в кавычки, пользуется старой терминологической парой немецкого классического идеализма, продукция и репродукция. Исследователь есть репродуктивный художник. Это словосочетание точнее характеризует исследователя искусства чем современный термин интерпретация, допускаемый Зедльмайром разве что в музыковедческом значении превращения незвучащей нотной записи в живую музыку. При таком понимании этого термина нельзя считать интерпретацией произведения искусства перевод его в слова. Дело интерпретатора не в том чтобы заменить краски на полотне лексикой на бумаге. Воссоздание должно совершаться глубже лексики на
наука об искусстве | Z65
том же самом уровне, на котором вел свою борьбу художник. Задача кажется невыполнимой. Тем она благороднее.
Старый термин, правда, тоже требует правильного понимания. Репродукция не воссоздание процесса или состояния творчества, а завершенная духовная продукция, захватывающая полноту человеческого существа. Для переводческой интерпретации конечная цель словесный текст, по каким-то параметрам адекватный художественному произведению. Для искусствоведческой репродукции сама материя произведения есть текст, с установления и корректного прочтения которого начинается собственно работа. Выйдя за пределы подготовительной фактографии, она имеет уже только ориентиры взаимосвязи, структуры, целости полноты. Главный из них, с которого мы начинали, — внутренняя, не причинно обусловленная, а свободно принятая необходимость. Она жестко сковывает работу мастера. С ней связана невозможность ничего прибавить к произведению и ничего отнять от него, ни даже просто поменять местами правую и левую части образа без порчи вещи. Сюда же относится известный феномен последнего штриха, которым мастер придает законченность работе.
Неуловимость решающего штриха для постороннего глаза указывает на невидимость области, откуда художественная воля диктует свою неизбежность. Попытки сформулировать закон творчества извне вынужденно ограничиваются негативными требованиями. Так обязательность для произведения быть гешталь-том сводится у Зедльмайра в конечном счете лишь к требованию оформленности, т. е. выраженности исходной идеи в противовес ее застыванию в фазе сырого замысла. Необходимая для законченной вещи плотность (Dichte) означает не богатство содержания, а многозначность, свойственную образам сна, т. е. напоминает о том, что искусство развертывает свое волшебство не в метрическом пространстве. То же с критериями многозначности, уже рассмотренной нами необходимости и, конечно, единства. За этим последним стоит при внимательном рассмотрении просто отсутствие бессвязности.
Только цельность как безусловное и всеобщее требование не сводится к негативным определениям. Она единственная надежная мера оценки. Зедльмайровский критерий наибольшей плодотворности подчеркивает главные черты целого, богатство и здравость. Принцип единственности верной интерпретации опирается на уникальное своеобразие целого. Но интуитивная понятность целого всего труднее для схватывания. Ее дефиниция у Зедльмайра тавтологична. Интерпретация, нацеленная на целое, тем более верна, говорит он, чем больше деталей произведения она способна охватить пониманием, т. е собственно собрать в одно целое.

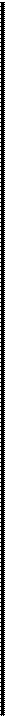 266 | е. е. бибихин
266 | е. е. бибихин
Чутье к целому, Зедльмайр прав, подорвано в нашу эпоху засильем механики. Она питается суррогатом целого, глобализмом. Орган восприятия истинной целости ослаблен. Не обстоит ли однако с ним дело как со всякой способностью восприятия небывалой новизны. Органы такого восприятия в любом случае создаются, если им еще дано родиться, здесь и теперь, ad hoc. Наша эпоха ничем тут не отличается от любой прошлой и будущей, кроме разве что размеров путаницы перед глазами. Как всегда, инициатива создания, свежесть восприятия поддержаны только творением из ничего. Истории грозит кончиться, если пророческие сны художников и мыслителей перестанут быть бездонно плотными, а в окружающей среде ослабнет готовность покоряться им.
История питается тем, что плотность высших созданий распускается в вещественные слои, их моментальная собранность развертывается во времени. Можно и нужно спросить, в том ли призвание искусства. Новорожденные небывалые существа способны на многое. Не принадлежит ли даже самая умелая их интерпретация, помещающая их в расписанное пространство культуры, вредной европейской исторической привычке. Новорожденное может не хотеть выхода из родной топики и расточения в метрике, созданной и поддержанной во многом механически. Не действует ли в приемах отнесения художественных вещей к стилю, жанру, направлению, эпохе новоевропейская привычка, слишком устоявшаяся, чтобы ставиться под вопрос. Действительно ли единичное художественное событие — малая цель науки об искусстве, а величайшая — мировая история искусства? Не идет ли такая иерархия против установки самого Зедльмайра на проникновение прежде всего и главным образом в отдельную вещь? Может ли " всемирная история искусства" собраться в целое иначе как иллюзорно в рамках глобальных схем? Так или иначе работа интерпретации, пусть она становится в условиях глобалистского вызова громадной, будет продвигаться только локальными прорывами, подобно тому как история жизни на земле шла прорывами отдельных, немногих видов, а не накоплением биологической массы, которая в огромном своем большинстве осталась только пробой. Пережитком историзма, от которого не свободен Зедльмайр, нужно считать и иллюзию завершенной перспективы вдали. Продолжая сравнение искусства с природой, описание живых организмов вовсе не обязательно должно сложиться в единую картину биологического развития; наоборот, факт гибели громадного большинства видов на планете не только после расширения человеческой деятельности, но уже и до нее вычерчивает скорее картину обреченности. Обескураживающий разброс вместо связной осмысленности может с равным успехом остаться последним итогом мировой истории искусства.
наука об искусстве \ 267
В свете всего этого не надо ли уделить наконец достойное внимание вневременности художественного события и признать его проекцию на европейскую историю не всегда уместной. Беспричинно новое впрягают в машину исторического развития но единственно ли верно такое его применение.
К лучшим страницам Зедльмайра принадлежит характеристика художественного времени. Только оно настоящее в противовес ложному времени календаря, где текущий момент неуловимо скользит из еще-не в уже-небытие, а будущее расписано и тем самым заранее сделано прошлым. Настоящее художественного произведения противоположно и мнимому времени футурологии спешащей уйти из реальности в сон. Сумев родиться, художественное произведение способно и длиться, приобщая окружение к истории своего бытия. Не стареет свидетельство успеха. Однажды достигнутый, он остается вызовом навсегда. Настоящее тут не отяжелено виной за прошлое, которое в свете истинного события лучше называть настоящим в образе ставшего. Нет тут и тревоги о будущем, в котором увидено то же настоящее в образе настающего. Охватив ставшее и настающее, время оказывается целым. Дурная бесконечность прошлого и будущего отступает куда ей и положено, в область иллюзии. Вспоминая " Квартеты" Элиота, Зедльмайр называет выход в подлинное настоящее не столько вне- или всевременностью, сколько свободой от времени и для него, Zeitfreiheit.
В тихой точке оборотня мира. Ни бесплотность и ни плоть;
Ниоткуда, никуда; в тихой точке, там событье танца,
Но ни остановки, ни порыва. И застывшим то не называй,
В чем сошлось что стало и что станет. Ни поток оттуда, ни туда,
И ни восхожденье, ни упадок. Без такой точки, тихой точки
Не было бы танца; и есть — лишь танец.
Но можно ли тогда говорить о двух системах, времени действительного события, с одной стороны, и ложном и иллюзорном, с другой? Длительность настоящего во всяком случае единственный двигатель истории. Не совсем верно говорить, что современное человечество живет в смешанном времени, если только половина этой смеси настоящая. Трудно назвать жизнью равномерную комбинацию из живого тела и протеза.
Если не только музыка, но и живопись вводит в настоящее время, то о времени ли вообще речь? не о настоящем ли как таковом? Если нет ничего кроме настоящего, в которое входит ставшее и настающее, то оно связано с календарным временем как тело с тенью и пресуществление обыденного времени в сферу более высокого времени невозможно себе представить. Тут не разные

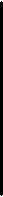 268 | в. в. бибихин
268 | в. в. бибихин
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

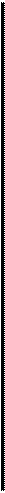 ступени единой природы, а опустошение настоящего времени в календаре.
ступени единой природы, а опустошение настоящего времени в календаре.
Масштаб механического времени неправомерно приложен к художественной реальности. Его линейка имеет непроясненное происхождение. Мы имеем здесь дело с одним из проблематичных изобретений Запада. Ему не хватает сил держаться настоящего. Высокое искусство напоминает о времени как бытии, но сдвинуть мертвые мерки календаря уже не в силах. Настоящее вторгается в механический процесс через миф, культ, праздник, откровение. Их становится в Европе все меньше. Задает тон метрическое время. Вписанные в него события остаются неразгаданной и едва терпимой в его рамках загадкой.
Неясно, в каком смысле и почему искусство, носитель настоящего, принадлежит тем не менее календарному времени. Говорить так не уступка ли механике? И хуже: называя время искусства внеисторическим, Зедльмайр нечаянно отдает механическому процессу всю историю целиком.
В технической цивилизации произведение, едва выйдя из рук художника, падает в метрическое время и включается в механические процедуры. Чужое ему время обступает его со всех сторон. Оно начинает вырывать вещь из рук художника в самом ходе ее создания и еще раньше, на стадии замысла и становления таланта. С инерцией среды художник встречается на каждом шагу. Иначе могло быть в гипотетическом сакральном пространстве, предполагающем нераздельность настоящего без противостояния систем и смешения своего с чужим. В сакральном пространстве чужому оставлена только война без перемирий и переговоров. Наука об искусстве там была бы невозможна. Разбираться в смешении настоящего и ложного, двигаясь попеременно то в событийном, то в метрическом пространстве, ему бы не позволили.
Истинное произведение искусства распознается по мирному подъему, который оно дарит. Вечность располагает к себе своим касанием. Большинство любителей довольно тем, что умеет принять подарок эстетического наслаждения. Рабочую и проклятую сторону жизни толпа считает себя вправе отдать художникам, оставив себе только сторону удовольствия. Немногим передается та бездна тревоги, в которую брошен настоящий творец. Счастье встречи этим не отменяется, оно только перестает быть наивным. Triste alegria, скорбная радость была наградой художнику за его упрямство. Ее разделят с ним те, кто не отгородится от его созданий. Важно не забыть, что дьявол, как цитирует Зедльмайр Бонавентуру, изображенный художником прекрасно, страшным оттого быть не перестает.
Август, имп. 215 Августин, блаж. 209 Агриппа Неттесхеймский 127 Аллеш, Г.-Й. фон 78, 102, 160,
164, 183 Алпатов, М. В. 23, 104, 139 Альберти, Л. Б. 205 Альчиати, А. 197 Аристотель 237 Арчимбольдо, Дж. 118 Баадер, Ф. фон 30, 121, 133,
169, 172, 227-229, 231,
242-247, 250-252, 255 Бальоне, Дж. 192, 194, 200 Бейкелар 118 Беккер, О. 236, 246 Белланж, Ж. 116 Бернини, Л. 202-204 Бетховен, Л. ван 162, 194 Бёкль, X. 256 Воден, Ж. 116 Бодлер, Ш. 114, 168, 253 Больнов, Ф. О. 235, 240, 245,
246 Бонавентура 216-219 Борромини, Ф. 23 Брант, С. 116 Браунфельс, В. 199 Брейгель, П. 116, 118, 128, 132,
197 Брейн, Э. де 217, 219, 220 Врунов, Н. 24
Буркхардт, Я. 13, 20, 21, 23, 33 Вааген, Г. Ф. 19 Вагнер фон Вагенфельс 215 Вазари, Дж. 12, 13, 15, 16, 21
Вайнхандль, Ф. 143 Вару, Д. 201 Ватто, А. 33 Вейнингер, О. 256 Веласкес 188, 189, 194, 198,
199, 200 Вентури, Л. 252 Вермеер, Я. 186-201 Вернер, X. 78, 91, 100, 101, 103
105 Вертхаймер, М. 47, 71, 72, 76,
85, 143 Вёльфлин, Г. 13, 22, 62, 148,
155, 177, 179-183, 190 Викхоф, Ф. 22, 64 Винд, Э. 44, 45, 59 Виндельбанд, В. 62 Винкельман, И. И. 12-17, 20 Винсент де Поль 127 Галле, Ф. 205 Гаман, И. Г. 252 Гегель, Г. В. Ф. 17-19, 22, 63,
65, 222-226, 228 Гейдрих, Э. 13, 16, 19, 22, 23,
26 Герей, К. Г. 204, 209, 210-213 Герстенберг, К. 22 Гёте 63, 65, 114, 159, 217 Гойя, Ф. 256 Гомбрих, Э. 208 Гомер 242 Грасси, Э. 29, 145, 156, 237,
241-243 Гроций, Г. 116
Гуго Сен-Викторский 219, 220 Гумбольдт, В. фон 23, 64, 65
 270 | указатель имен
270 | указатель имен
Указатель имен \ 271

 Данте 197
Данте 197
Дворжак, М. 22, 33, 64, 113,
116-118, 121, 122, 127, 128,
131, 132 Де Санктис, Ф. 144 Дега, Э. 256 Делакруа, Э. 114 Джордано, Л. 199 Дильтей, В. 49, 65, 140, 142 Домье, О. 256 Достоевский, Ф. 247 Дрегер, М. 205, 215 Дюрер, А. 135 Жерико, Т. 256 Зандрарт, И. 13 Земпер, Г. 41 Зигварт, X. 142 Иосиф I 205 Йенш, Э. Р. 101 Кавальери, Т. 197, 198 Казель, О. 121 Кант, И. 62 Караваджо 200 Карл Борромей, св. 209, 212 Карл Великий 212, 215 Карл Фламандский (Добрый)
212 Карл V 210-212, 215 Карл VI 211, 212 Кастелли, Э. 221, 229 Кауфман, X. 191, 202 Кашниц-Вейнберг, Г. фон 65,
89, 113 Кёллен, Л. 43, 61, 62 Кляйнер, С. 201 Кнут 212
Конрад Мартиус, X. 27 Конт, О. 65 Корнхерт, Д. В. 116 Коффка, К. 85, 94, 104 Кроме, Б. 14, 22, 31, 73, 79, 135,
167, 177 Кубин, А. 256 Курбе, Г. 256 Ле Корбюзье 252 Левин, К. 40, 44, 52, 91, 94-96,
Лейбниц, Г. В. 212 Леонардо да Винчи 200, 201 Лерш, Ф. 141, 142 Линферт, К. 90 Лихтенберг, К. Г. 123 Мандер, К. ван 13 Маннхейм, К. 44, 62 Мансар, Ф. 205 Марк Аврелий 54, 214 Мейер, А. 10, 43, 103 Микеланджело 24, 33, 118, 119,
128, 197, 198 Мирис, Ф. ван 199 Монтень, М. де 116 Монтескье, Ш. Л. 17 Морелли, Д. 21 Мразек, В. 192, 193, 197, 200,
201 Музиль, Р. 133 Мунк, Э. 256 Муратори, Л. А. 12, 21 Ницше, Ф. 12 Овидий 198. Отто, В. Ф. 170 Охтервельт 199
Панофски, Э. 44-46, 48, 62, 122 Паскаль, Б. 249 Пассаван, И. Д. 19 Пеги, Ш. 242 Пиндер, В. 22, 34, 37, 68, 73,
164, 177 Порта, Дж. делла 24 Поццо, А. 205 Прокопий 204 Пруст, М. 246, 249 Псевдо-Дионисий 219 Пуссен, Н. 23 Пфеффель, Г. К. 201 Пэхт, О. 39, 104 Рабле, Ф. 116 Ранке, Л. фон 8 Рассем, М. 33, 60 Рембрандт 238 Ригль, А. 22, 23, 33, 35, 38-40,
42-52, 57-65, 115, 125, 130 Риккерт, Г. 62 Рипа, Ч. 192
Рихтер, Э. 196 Рудольф, X. 191, 193 Румор, К. фон 19 Савиньи, Ф. 19 Сальвини, Р. 24 Сен-Мартен 247 Скалигер, К. Г. 197 Тинторетто 117, 118, 128, 132 Траян, имп. 204, 214, 215 Тьеполо 29 Фёдоров, Н. 252 Фидлер, К. 150, 168, 178 Фихте, И. Г. 222 Фишер фон Эрлах, И. Б.
201-215 Фолькельт, X. 101 Франциск Сальский, св. 116 Фулько 216 Фуртвенглер, В. 26, 134, 155,
156 Хайдеггер, М. 185, 233, 257 Хайзе, К. Г. 29 Хеккер, Т. 31, 171 Хемскерк, М. 118, 205 Хервеген, И. 122 Херригель, Э. 242 Хетцер, Т. 29, 37 Хёллер 204 Хогарт, У. 256 Хох, П. де 199 Хорнбостель, Э. М. 101 Хорб, Ф. 113 Чаплин, Ч. 255 Шекспир 116, 230 Шелер, М. 62, 63 Шеллинг, Ф. 222 Шлегель, Ф. 17, 222 Шлоссер, Ю. фон 22, 79 Шмарзов, А. 22 Шнаазе, К. 13, 19-21, 23 Шопенгауэр, А. 161 Шпенглер, О. 61 Шпрангер, Б. 118 Штифтер, А. 114, 159, 161, 237 Элиот, Т. С. 237 Эль Греко 118, 128, 132
Эрдман, И. Э. 142 Эттингер, к. 154, 199 Юнгер, Э. 118 Юсти, К. 200
Янтцен, X. 22, 37, 80, 83, 186
Albrechtsburg, A. von 211
Andreades 23
Angulo, I. D. 189
Badt, K. ^01
Bergmann, W. 212
Boehm, G. 150
Brehier, L. 68
Einem, H. von 28
Fegers, H. 201
Felibien, A. 14
Fernandez, R. 112
Fresne, du 201
Freyer, H. 27
Gurlitt, С 205
Hoffmann, F. 121, 227
Hollands, E. 51
Ivanka, E. 211
Montfaucon, B. de 212
Muntz, G. 51
Nadler, J. 29
Picard, M. 195
Plehn, A. L. 42
Reisch, E. 39
Revesz, G. 30
Rintelen, F. 153 Ritter, A. 197 Rothacker, E. 64 Schrade, H. 68 Schweitzer, B. 52 Sedlmayr, H. 23, 25-27, 33, 35, 66, 78, 82, 83, 93, 99, 103, 106, 108, 127, 160, 164, 198, 203, 226, 229, 256 Sieberer, A. 33 Stechow, W. 68 Susini, E. 244 Tolnay, Ch. de 200 Valentiner, R. 191 Vierkandt, A. 46 Weidle, W. 27 Will, C. 212 ZiegenfuB, W. 100
Оптовую торговлю книгами издательства " Аксиома"
в Петербурге и Москве осуществляет
издательско-торговый дом
ЛЕТН ИЙ САД
Санкт-Петербург, Большой пр. П. С, 82
(станция метро " Петроградская", флигель во дворе)
Телефон: (812) 232.21.04 факс: (812)233.19.62
e-mail: letnysad@mail.wplus.net
Москва, Б. Никитская, 46, магазин-салон
(станция метро " Баррикадная")
Телефон: (095) 290.06, 88
Москва, Б, Предтеченский пер., 7, склад-офис
(станция метро " Краснопресненская")
Телефон: (095) 255.01.98
e-mail: letsad@aha.ru
С отзывами и предложениями обращаться к издателю:
Андрей Наследников, а/я 42, 191011, Санкт-Петербург
e-mail: axioma@spb.cityline.ru
ISBN 5-93403-005-1
Ганс Зедльмайр
ИСКУССТВО И ИСТИНА
ТЕОРИЯ И МЕТОД ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Издатель Андрей Наследников
Лицензия №01625 от 19 апреля 2000 г.
191011, СПб., а/я 42; e-mail: axioma@spb.cityline.ru
Формат 84 х 108 / 32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография " Наука
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Зак. № 699